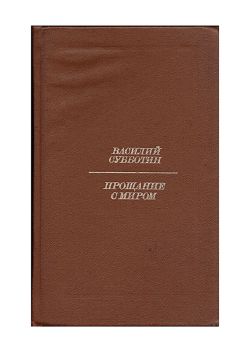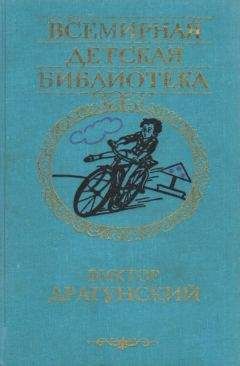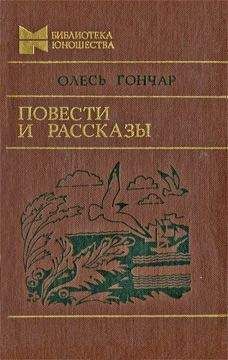Василий Субботин - Прощание с миром
И вслед за том действительно заговорила артиллерия.
Мне показалось, что я зря сюда пришел, что я пропустил, не увидел чего-то очень важного, что происходило сейчас там, что я мог бы увидеть, если бы был там, где я только что до этого был, что я ушел оттуда не вовремя.
Но в эту минуту стоявший у стереотрубы генерал сказал:
— Эх, смотрите, как красиво идет там впереди один… Узнать бы его фамилию!
— Товарищ генерал, — взмолился я, стоя за спиной у него, — позвольте мне посмотреть!
Генерал оторвался от стереотрубы, поглядел на меня, видимо, очень удивленно, затем (как-никак, я все-таки представился ему, назвал ему себя, сказал, что я — из газеты, из армейской газеты) отошел от стереотрубы, дан мне возможность посмотреть то, что видел он. Окружающие генерала офицеры его штаба удивленно оглядели меня. Я приник к окулярам и увидел взбегающих по склону вконец уже черной высоты солдат, и еще одного, вырвавшегося далеко вперед, в таком же, как и на других, ремнем перетянутом ватнике. И тут же, вслед за тем сразу, я увидел взрывы гранат, рвущихся на склоне высоты, ближе к ее вершине.
Я отошел от стереотрубы. Стоять дальше, казалось мне, было бы уже нахальством с моей стороны.
И действительно, по телефону тут же доложили, что рота на высоте, что там идет уже траншейный бой.
Я не знал, что мне делать, мне опять казалось, что я нахожусь не на месте, не там, где я должен был бы быть по моему положению человека, пришедшего сюда из газеты. Ведь я должен был обо всем этом писать, рассказать об этих людях, а я ничегошеньки не видел, кроме бросающих гранаты, взбирающихся вверх черных фигур… Все вокруг меня, все эти инструктора, и дивизионные и армейские, вели себя так, как если бы они делали какое-то важное, необходимое дело, переговаривались между собой, наблюдали, они, как видно, могли потом доложить начальству, как и что, я не знаю, в чем состоял смысл их пребывания здесь; одним словом, все были спокойны и привычно уверены в себе, я один не знал, что мне делать, как быть… Я бегал от этой сопки к траншее, где народу теперь было больше, чем раньше, когда в ней сидели готовящиеся к атаке, молодые, грустные люди в одинаково темных, толстых ватниках, — и обратно к сопке, на которой, как в сотах, были понатыканы ячейки для наблюдения.
Я бегал так от одного человека к другому, пробовал выяснить что-нибудь у связистов, но телефонной связи с высотой не было еще, а посланный туда радист еще не добрался, и неизвестно было, доберется ли он вообще туда.
Я понимал, что возвращаться в редакцию мне не с чем. Без фамилий людей, сидевших на высоте там, моя корреспонденция состояла бы, как мне казалось, из одной фразы: «Высота такая-то взята». Или, в лучшем случае: «Вчера воины нашей части штурмом взяли высоту такую-то, долговременный пункт обороны противника». Не этого, как я понимал, ждали от меня в редакции. Я не знал никого из тех, кто находился сейчас там, на высоте, мне не было известно, кто из них жив, кто погиб, ничего этого я не знал, а значит, как думал я, не мог, не имел права что-нибудь писать. Да даже и фамилии, будь они у меня, одни только фамилии, тоже ничего не дали бы мне, я должен был видеть этих людей после того, как они достигли высоты, говорить с ними.
Ничего этого я не знал и ничего этого у меня не было.
День подходил к концу. Солнце, там как раз, слева от высоты, красное, обещающее мороз, закатилось… Очень быстро стемнело. Я опять пришел в теперь уже выстужевшую, пустую землянку, куда уже стали собираться все эти многочисленные инспектора и уполномоченные…
Между тем над передним краем опустилась ночь.
Я выбрался из землянки, сбежал в эту, теперь уже окончательно пустую траншею, дождался, когда на небе высыпали звезды, а они высыпали по всему небу очень густо, ночь была звездной и морозной, и теперь только впервые выкатился, выкарабкался из траншеи из этой, которая оказалась гораздо глубже, чем я думал, перевалился через бруствер и пополз, вернее сказать, сначала просто пошел туда, в сторону теперь уже совершенно невидимой высоты. Не надеясь попасть на тропу, проложенную через болото, ту, по которой днем пробирались солдаты-штрафники, я стал забирать в сторону, надеясь обогнуть, обойти ого, это болото, справа. Едва я немного отошел, как стали взлетать ракеты, далеко вокруг освещая лежащую впереди меня равнину, глухие снежные сугробы. Я падал тотчас, как только ракета взмывала ввысь, приникал к земле, стараясь перележать, пока она еще горит надо мной. Несколько раз я натыкался на белые, огромные, как представлялось мне во тьме, буграми лежавшие здесь трупы. Их оказалось гораздо больше, чем можно было предполагать. Я не знал, что тут так много. Я только после понял, что трупы эти были навалены давно когда-то, может быть, еще летом или осенью, когда, так же как это было сегодня, пытались все так же брать эту высоту. Трупы эти, когда я лежал на снегу за ними, казались мне словно бы раздутыми, распертыми на морозе. В действительности они раздулись так не на морозе, а скорее всего, еще в тепле, до наступления зимы еще, и теперь закоченели, превратились в каменные, затвердевшие глыбы. То, что они и в самом деле были раздувшимися, вздутыми, можно было понять и по тому, что телогрейки, как я видел, были, особенно на спине, по швам, лопнувшими во многих местах.
Я полз и полз вперед, огибая эти раздувшиеся, горой торчащие на снегу, на морозе, под звездами, тела павших здесь когда-то солдат, и когда повисала ракета или начинали свистеть пули, я прятался за них. Так я постепенно продвигался все дальше и дальше, стараясь как можно правее быть от этого гиблого болота, которое не могли обойти идущие на штурм высоты люди. Ракеты вспыхивали одна за другой, а я полз все дальше и дальше, и никакого болота не было, как видно, я обогнул его стороной, облез его. Я уже думал, что я близко у цели. Я даже, когда одна ракета погасла, а другая еще не взлетела, стараясь оглядеться, поднялся на ноги и пошел вперед, как вдруг, слева, в стороне от себя и даже чуть за спиной, увидел орудие, длинный ствол стоявшего здесь орудия, с насаженным на него дульным тормозом, очень характерным, каких в то время у нас еще не было, — немецкого орудия, направленного в нашу сторону. В темноте, на фоне снежной горы я очень хорошо рассмотрел все это. Оказалось, что я вышел к огневой позиции немецкого орудия, в тыл к нему.
Внутри у меня все похолодело, и я, быстро, быстро, где ползком, а где и перебежками, кинулся назад, обратно, только тут сообразив, что я уклонился от первоначально взятого мной направления, слишком далеко забрал в сторону, что я вышел не во фланг, как я хотел, а в тыл злосчастной высоты этой.
Я скоро убедился в том, что это так и есть, потому что некоторое время спустя увидел наконец, теперь уже справа от себя, и саму высоту эту, ее контуры. Я взял еще немного правее, и теперь высота была передо мной.
Весь мокрый, я поднялся наверх, перед самой высотой, за болотом, встретив солдата, тянущего связь, нитку провода, туда, на саму высоту…
Я провел тут два или три оставшиеся до утра часа, записав фамилии тех, кто погиб, и тех, кто уцелел, кто еще находился здесь, почти со всеми с ними переговорив, восстановив всю последовательность того, что происходило здесь, и только к утру, когда начал брезжить рассвет, с одним из раненых, теперь уже по болоту, через болото, по дороге, которую знал солдат, добрался до знакомой мне траншеи, до сопки, переговорив еще с работником политотдела, с удивлением узнавшим, что я был там…
Когда в тот же день, рано, я вернулся в редакцию и написал статью, так и называвшуюся — «Бой за высоту», статья эта была снята с уже сверстанной полосы. Оказалось, что взявшая высоту рота была на другой день выбита с нее и высота была сдана.
6
Какое-то время после этого я еще оставался в редакции, и мне даже поручили написать очерк о том, как жители деревни, в которой мы стояли, жили под оккупацией, как пережили они это страшное для них время. Если бы не этот случай, не задание это, я и не узнал бы никогда, что жители когда-то большой, а теперь наполовину сожженной деревни, в которой мы так давно, казалось бы, стояли, находятся не где-нибудь, а тут же, в лесу, за озером, на пологий берег которого одним своим концом выходила наша деревня. Действительно, ни одного человека, ни старика, ни ребенка, в занятой штабом деревне не было, я даже думал, что их вообще нет, что они угнаны немцем или эвакуированы куда-нибудь в тыл, а они оказались тут же, в лесу, за этим белым, за песенным снегом озером, которое я теперь, когда это потребовалось, запросто перешёл по льду.
Я едва перешел озеро, как тут же и глубине леса увидел курящиеся землянки. Целая улица занесенных снегом, курившихся дымком землянок.
В течение двух дней, глубоко проваливаясь в снег, которого тут, в лесу, оказалось очень много, я ходил от землянки к землянке, от одной двери к другой, расспрашивал стариков и баб о том, каково пришлось им в немецкой неволе за эти более чем два года. Рассказы были тяжелые, куда тяжелее, чем я ожидал, и я, расспрашивая о перенесенных этими людьми испытаниях, полностью исписал самодельный, наскоро сшитый мной блокнот.