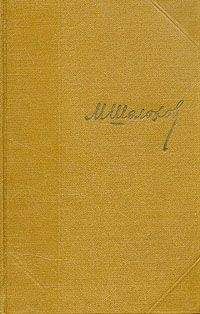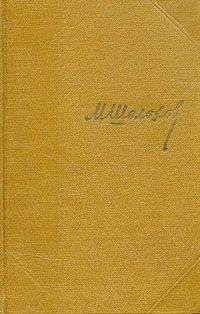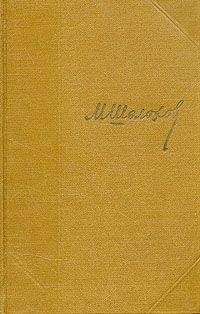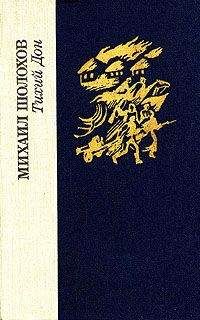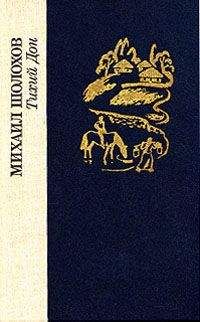Михаил Шолохов - Том 5. Тихий Дон. Книга четвертая
— Что ж, ты навовсе пришел? — спросила она после того, как Пантелей Прокофьевич отвалился от каши.
— Там видно будет… — уклончиво ответил он.
— Вас, стариков, стало быть, спустили по домам?
— Никого не спускали. Куда спускать, ежли красные уже к Дону подпирают? Я сам ушел.
— А не прийдется тебе отвечать за это? — опасливо спросила Ильинична.
— Поймают — может, и отвечать прийдется.
— Да ты, что же, хорониться будешь?
— А ты думала, что на игрища буду бегать али по гостям ходить? Тьфу, бестолочь идолова! — Пантелей Прокофьевич с сердцем сплюнул, но старуха не унималась:
— Ох, грех-то какой! Ишо беды наживем, как раз ишо дерзать тебя зачнут…
— Ну, уж лучше тут нехай ловют да в тюрьму сажают, чем там по степям с винтовкой таскаться, — устало сказал Пантелей Прокофьевич. — Я им не молоденький по сорок верст в день отмахивать, окопы рыть, в атаки бегать, да по земле полозить, да хорониться от пулев. Черт от них ухоронится! Моего односума с Кривой речки цокнула пуля под левую лопатку — и ногами ни разу не копнул. Тоже приятности мало в таком деле!
Винтовку и подсумок с патронами старик отнес и спрятал в мякиннике, а когда Ильинична спросила, где же его зипун, — хмуро и неохотно ответил:
— Прожил. Вернее сказать — бросил. Нажали на нас за станицей Шумилинской так, что всё побросали, бегли, как полоумные. Там уж не до зипуна было… Кой у кого полушубки были, и те покидали… И на черта он тебе сдался, зипун, что ты об нем поминаешь? Уж ежли б зипун был добрый, а то так, нищая справа…
На самом деле зипун был добротный, новый, но все, чего лишался старик, — по его словам, было никуда не годное. Такая уж у него повелась привычка утешать себя. Ильинична знала об этом, а потому и спорить о качестве зипуна не стала.
Ночью на семейном совете решили: Ильиничне и Пантелею Прокофьевичу с детишками оставаться дома до последнего, оберегать имущество, обмолоченный хлеб зарыть, а Дуняшку на паре старых быков отправить с сундуками к родне, на Чир, в хутор Латышев.
Планам этим не суждено было осуществиться в полной мере. Утром проводили Дуняшку, а в полдень в Татарский въехал карательный отряд из сальских казаков-калмыков. Должно быть, кто-нибудь из хуторян видел пробиравшегося домой Пантелея Прокофьевича; через час после вступления в хутор карательного отряда четверо калмыков прискакали к мелеховскому базу. Пантелей Прокофьевич, завидев конных, с удивительной быстротой и ловкостью вскарабкался на чердак; гостей встречать вышла Ильинична.
— Где твоя старика? — спросил пожилой статный калмык с погонами старшего урядника, спешиваясь и проходя мимо Ильиничны в калитку.
— На фронте. Где же ему быть, — грубо ответила Ильинична.
— Веди дом, обыск делаю буду.
— Чего искать-то?
— Старика твоя искать. Ай, стыдно! Старая какая — брехня живешь! — укоризненно качая головой, проговорил молодцеватый урядник и оскалил густые белые зубы.
— Ты не ощеряйся, неумытый! Сказано тебе нету, значит — нету!
— Кончай балачка, веди дом! Нет — сами ходим, — строго сказал обиженный калмык и решительно зашагал к крыльцу, широко ставя вывернутые ноги.
Они тщательно осмотрели комнаты, поговорили между собой по-калмыцки, потом двое пошли осматривать подворье, а один — низенький и смуглый до черноты, с рябым лицом и приплюснутым носом — подтянул широкие шаровары, украшенные лампасами, вышел в сенцы. В просвет распахнутой двери Ильинична видела, как калмык прыгнул, уцепился руками за переруб и ловко полез наверх. Пять минут спустя он ловко соскочил оттуда, за ним, кряхтя, осторожно слез весь измазанный в глине, с паутиной на бороде, Пантелей Прокофьевич. Посмотрев на плотно сжавшую губы старуху, он сказал:
— Нашли, проклятые! Значит, кто-нибудь доказал…
Пантелея Прокофьевича под конвоем отправили в станицу Каргинскую, где находился военно-полевой суд, а Ильинична всплакнула немного и, прислушиваясь к возобновившемуся орудийному грому и отчетливо слышимой пулеметной трескотне за Доном, пошла в амбар, чтобы припрятать хоть немного хлеба.
XXIIЧетырнадцать изловленных дезертиров ждали суда. Суд был короткий и немилостивый. Престарелый есаул, председательствовавший на заседаниях, спрашивал у подсудимого его фамилию, имя, отчество, чин и номер части, узнавал, сколько времени подсудимый пробыл в бегах, затем вполголоса перебрасывался несколькими фразами с членами суда — безруким хорунжим и разъевшимся на легких хлебах усатым и пухломордым вахмистром — и объявлял приговор. Большинство дезертиров присуждалось к телесному наказанию розгами, которое производили калмыки в специально отведенном для этой цели нежилом доме. Слишком много развелось дезертиров в воинственной Донской армии, чтобы можно было пороть их открыто и всенародно, как в 1918 году…
Пантелея Прокофьевича вызвали шестым по счету. Взволнованный и бледный, стоял он перед судейским столом, держа руки по швам.
— Фамилия? — спросил есаул, не глядя на спрашиваемого.
— Мелехов, ваше благородие.
— Имя, отчество?
— Пантелей Прокофьев, ваше благородие.
Есаул поднял от бумаг глаза, пристально посмотрел на старика.
— Вы откуда родом?
— С хутора Татарского Вёшенской станицы, ваше благородие.
— Вы не отец Мелехова Григория, сотника?
— Так точно, отец, ваше благородие. — Пантелей Прокофьевич сразу приободрился, почуяв, что розги как будто отдаляются от его старого тела.
— Послушайте, как же вам не стыдно? — спросил есаул, не сводя колючих глаз с осунувшегося лица Пантелея Прокофьевича.
Тут Пантелей Прокофьевич, нарушив устав, приложил левую руку к груди, плачущим голосом сказал:
— Ваше благородие, господин есаул! Заставьте за вас век бога молить — не приказывайте меня сечь! У меня двое сынов женатых… старшего убили красные… Внуки есть, и меня, такого ветхого старика, пороть надо?
— Мы и стариков учим, как надо служить. А ты думал, тебе за бегство из части крест дадут? — прервал его безрукий хорунжий. Углы рта у него нервически подергивались.
— На что уж мне крест… Отправьте вы меня в часть, буду служить верой и правдой… Сам не знаю, как я убег: должно, нечистый попутал… — Пантелей Прокофьевич еще что-то бессвязно говорил о недомолоченном хлебе, о своей хромоте, о брошенном хозяйстве, но есаул движением руки заставил его замолчать, наклонился к хорунжему и что-то долго шептал ему на ухо. Хорунжий утвердительно кивнул головой, и есаул повернулся к Пантелею Прокофьевичу.
— Хорошо. Вы все сказали? Я знаю вашего сына и удивляюсь тому, что он имеет такого отца. Когда вы бежали из части? Неделю назад? Вы, что же, хотите, чтобы красные заняли ваш хутор и содрали с вас шкуру? Такой-то пример вы подаете молодым казакам? По закону мы должны судить вас и подвергнуть телесному наказанию, но из уважения к офицерскому чину вашего сына я вас избавляю от этого позора. Вы были рядовым?
— Так точно, ваше благородие.
— В чине?
— Младшим урядником был, ваше благородие.
— Снять лычки! — Перейдя на «ты», есаул повысил голос, грубо приказал: — Сейчас же отправляйся в часть! Доложи командиру сотни, что решением военно-полевого суда ты лишен звания урядника. Награды за эту или за прошлые войны имел?.. Ступай!
Не помня себя от радости, Пантелей Прокофьевич вышел, перекрестился на церковный купол и… через бугор бездорожно направился домой. «Ну, уж зараз я не так прихоронюсь! Черта с два найдут, нехай хучь три сотни калмыков присылают!» — думал он, хромая по заросшей брицей стерне.
В степи он решил, что лучше идти по дороге, чтобы не привлекать внимания проезжавших. «Как раз ишо подумают, что я — дезертир. Нарвешься на каких-нибудь службистов — и без суда плетей ввалют», — вслух рассуждал он, сворачивая с пашни на заросший подорожником, брошенный летник и уже почему-то не считая себя дезертиром.
Чем ближе подвигался он к Дону, тем чаще встречались ему подводы беженцев. Повторялось то, что было весной во время отступления повстанцев на левую сторону Дона: во всех направлениях по степи тянулись нагруженные домашним скарбом арбы и брички, шли табуны ревущего скота, словно кавалерия на марше — пылили гурты овец… Скрип колес, конское ржанье, людские окрики, топот множества копыт, блеяние овец, детский плач — все это наполняло спокойные просторы степи неумолчным и тревожным шумом.
— Куда, дед, правишься? Иди назад: следом за нами — красные! — крикнул с проезжавшей подводы незнакомый казак с забинтованной головой.
— Будя брехать! Где они, красные-то? — Пантелей Прокофьевич растерянно остановился.
— За Доном. Подходют к Вёшкам. А ты к ним идешь?
Успокоившись, Пантелей Прокофьевич продолжал путь и к вечеру подошел к Татарскому. Спускаясь с горы, он внимательно присматривался. Хутор поразил его безлюдьем. На улицах не было ни души. Безмолвно стояли брошенные, с закрытыми ставнями курени. Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка; только возле самого Дона оживленно сновали люди. Приблизившись, Пантелей Прокофьевич без труда распознал вооруженных казаков, вытаскивавших и переносивших в хутор баркасы. Татарский был брошен жителями, это стало ясно Пантелею Прокофьевичу. Осторожно войдя в свой проулок, он зашагал к дому. Ильинична и детишки сидели в кухне.