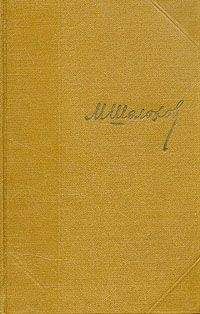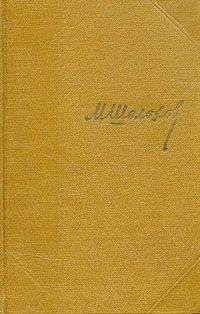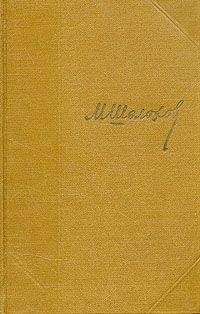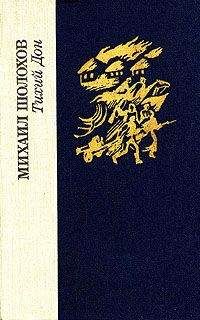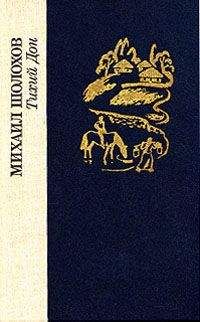Михаил Шолохов - Том 5. Тихий Дон. Книга четвертая
Старик рыл могилу, часто бросал лопату, присаживался на влажную глинистую землю, курил, думал о смерти. Но, видно, не такое наступило время, чтобы старикам можно было тихо помирать в родных куренях и покоиться там, где нашли себе последний приют их отцы и деды…
После того как похоронили Дарью, еще тише стало в мелеховском доме. Возили хлеб, работали на молотьбе, собирали богатый урожай с бахчей. Ждали вестей от Григория, но о нем, после отъезда его на фронт, ничего не было слышно. Ильинична не раз говаривала: «И поклона детишкам не пришлет, окаянный! Померла жена, и все мы стали не нужны ему…» Потом в Татарский чаще стали наведываться служивые казаки. Пошли слухи, что казаков сбили на Балашовском фронте и они отступают к Дону, чтобы, пользуясь водной преградой, обороняться до зимы. А что должно было случиться зимой — об этом, не таясь, говорили все фронтовики: «Как станет Дон — погонят красные нас до самого моря!»
Пантелей Прокофьевич, усердно работая на молотьбе, как будто и не обращал особого внимания на бродившие по Обдонью слухи, но оставаться равнодушным к происходившему не мог. Еще чаще начал он покрикивать на Ильиничну и Дуняшку, еще раздражительнее стал, узнав о приближении фронта. Он нередко мастерил что-либо по хозяйству, но стоило только делу не заладиться в его руках, как он с яростью бросал работу, отплевываясь и ругаясь убегал на гумно, чтобы там приостыть от возмущения. Дуняшка не раз была свидетельницей таких вспышек. Однажды он взялся поправлять ярмо, работа не клеилась, и ни с того ни с сего взбесившийся старик схватил топор и изрубил ярмо так, что от него остались одни щепки. Так же вышло и с починкой хомута. Вечером при огне Пантелей Прокофьевич ссучил дратву, начал сшивать распоровшуюся хомутину; то ли нитки были гнилые, то ли старик нервничал, но дратва оборвалась два раза подряд, — этого было достаточно: страшно выругавшись, Пантелей Прокофьевич вскочил, опрокинул табурет, отбросил его ногой к печке и, рыча словно пес, принялся рвать зубами кожаную обшивку на хомуте, а потом бросил хомут на пол и, по-петушиному подпрыгивая, стал топтать его ногами. Ильинична, рано улегшаяся стать, — заслышав шум, испуганно вскочила, но рассмотрев, в чем дело, не вытерпела, попрекнула старика:
— Очумел ты, проклятый, на старости лет?! Чем тебе хомут оказался виноватый?
Пантелей Прокофьевич обезумевшими глазами глянул на жену, заорал:
— Молчи-и-и-и, такая-сякая!!! — И, ухватив обломок хомута, запустил им в старуху.
Давясь от смеха, Дуняшка пулей вылетела в сенцы. А старик, побушевав немного, угомонился, попросил прощения у жены за сказанные в сердцах крутые слова и долго кряхтел и почесывал затылок, поглядывая на обломки злополучного хомута, прикидывая в уме — на что же их можно употребить? Такие припадки ярости повторялись у него не раз, но Ильинична, наученная горьким опытом, избрала другую тактику вмешательства: как только Пантелей Прокофьевич, изрыгая ругательства, начинал сокрушать какой-нибудь предмет хозяйственного обихода — старуха смиренно, но достаточно громко говорила: «Бей, Прокофич! Ломай! Мы ишо с тобой наживем!» И даже пробовала помогать в учинении погрома. Тогда Пантелей Прокофьевич сразу остывал, с минуту смотрел на жену несмыслящими глазами, а потом дрожащими руками шарил в карманах, находил кисет и сконфуженно присаживался где-нибудь в сторонке покурить, успокоить расходившиеся нервы, в душе проклиная свою вспыльчивость и подсчитывая понесенные убытки. Жертвой необузданного стариковского гнева пал забравшийся в палисадник трехмесячный поросенок. Ему Пантелей Прокофьевич колом переломил хребет, а через пять минут, дергая при помощи гвоздя щетину с прирезанного поросенка, виновато, заискивающе посматривал на хмурую Ильиничну, говорил:
— Он и поросенок-то был так, одно горе… Один черт он бы издох. На них акурат в это время чума нападает; то хучь съедим, а то бы так, зря пропал. Верно, старуха? Ну, чего ты как градовая туча стоишь? Да будь он трижды проклят, этот поросенок! Уж был бы поросенок как поросенок, а то так, оморок поросячий! Его не то что колом — соплей можно было перешибить! А прокудной какой! Гнездов сорок картошки перерыл!
— Ее и всей-то картошки в палисаднике было не больше тридцати гнезд, — тихо поправила его Ильинична.
— Ну, а было бы сорок — он и сорок бы перепаскудил, он такой! И слава богу, что избавились от него, от враженяки! — не задумываясь, отвечал Пантелей Прокофьевич.
Детишки скучали, проводив отца. Занятая по хозяйству Ильинична не могла уделять им достаточного внимания, и они, предоставленные самим себе, целыми днями играли где-нибудь в саду или на гумне. Однажды после обеда Мишатка исчез и пришел только на закате солнца. На вопрос Ильиничны — где он был, Мишатка ответил, что играл с ребятишками возле Дона, но Полюшка тут же изобличила его:
— Брешет он, бабунюшка! Он у тетки Аксиньи был!
— А ты почем знаешь? — спросила, неприятно удивленная новостью, Ильинична.
— Я видала, как он с ихнего база перелезал через плетень.
— Там, что ли, был? Ну, говори же, чадушка, чего ты скраснелся?
Мишатка посмотрел бабке прямо в глаза, ответил:
— Я, бабунюшка, наобманывал… Я, правда, не у Дона был, а у тетки Аксиньи был.
— Чего ты туда ходил?
— Она меня покликала, я и пошел.
— А на что же ты обманывал, будто с ребятами играл?
Мишатка на секунду потупился, но потом поднял правдивые глазенки, шепнул:
— Боялся, что ты ругаться будешь…
— За что же я тебя ругала бы? Не-ет… А чего она тебя зазвала? Чего ты у ней там делал?
— Ничего. Она увидала меня, шумнула: «Пойди ко мне!», я подошел, она повела меня в курень, посадила на стулу…
— Ну, — нетерпеливо выспрашивала Ильинична, искусно скрывая охватившее ее волнение.
— …холодными блинцами кормила, а потом дала вот чего, — Мишатка вытащил из кармана кусок сахара, с гордостью показал его и снова спрятал в карман.
— Чего ж она тебе говорила? Может, спрашивала чего?
— Говорила, чтобы я ходил ее проведывал, а то ей одной скушно, сулилась гостинец дать… Сказала, чтобы я не говорил, что был у ней. А то, говорит, бабка твоя будет ругать.
— Вон как… — задыхаясь от сдерживаемого негодования, проговорила Ильинична. — Ну, и что же она, спрашивала у тебя что?
— Спрашивала.
— Об чем же она спрашивала? Да ты рассказывай, милушка, не боись!
— Спрашивала: скучаю я по папаньке? Я сказал, что скучаю. Ишо спрашивала, когда он приедет и что про него слыхать, а я сказал, что не знаю: что он на войне воюет. А посля она посадила меня к себе на колени и рассказала сказку. — Мишатка оживленно блеснул глазами, улыбнулся. — Хорошую сказку! Про какого-то Ванюшку, как его гуси-лебеди на крылах несли, и про бабу-ягу.
Ильинична, поджав губы, выслушала Мишаткину исповедь, строго сказала:
— Больше, внучек, не ходи к ней, не надо. И гостинцев от ней никаких не бери, не надо, а то дед узнает и высекет тебя! Не дай бог узнает дед — он с тебя кожу сдерет! Не ходи, чадунюшка!
Но, несмотря на строгий приказ, через два дня Мишатка снова побывал в астаховском курене. Ильинична узнала об этом, глянув на Мишаткину рубашонку: разорванный рукав, который она не удосужилась утром зашить, был искусно прострочен, а на воротнике белела перламутром новенькая пуговица. Зная, что занятая на молотьбе Дуняшка не могла возиться днем с починкой детской одежды, Ильинична с укором спросила
— Опять к соседям ходил?
— Опять… — растерянно проговорил Мишатка и тотчас добавил: — Я больше не буду, бабунюшка, ты только не ругайся…
Тогда же Ильинична решила поговорить с Аксиньей и твердо заявить ей, чтобы она оставила Мишатку в покое и не снискивала его расположения ни подарками, ни рассказыванием сказок. «Свела со света Наталью, а зараз норовит, проклятая, к детям подобраться, чтобы через них потом Гришку опутать. Ну, и змея! В снохи при живом муже метит… Только не выйдет ее дело! Да разве ее Гришка после такого греха возьмет?» — думала старуха.
От ее проницательного и ревнивого материнского взора не скрылось то обстоятельство, что Григорий, будучи дома, избегал встреч с Аксиньей. Она понимала, что он это делал не из боязни людских нареканий, а потому, что считал Аксинью повинной в смерти жены. Втайне Ильинична надеялась на то, что смерть Натальи навсегда разделит Григория с Аксиньей и Аксинья никогда не войдет в их семью.
Вечером в тот же день Ильинична увидела Аксинью на пристани возле Дона, подозвала ее:
— А ну, подойди ко мне на-час, погутарить надо…
Аксинья поставила ведра, спокойно подошла, поздоровалась.
— Вот что, милая, — начала Ильинична, испытующе глядя в красивое, но ненавистное ей лицо соседки. — Ты чего это чужих детей приманываешь? На что ты мальчишку зазываешь к себе и примолвываешь его? Кто тебя просил зашивать ему рубашонку и задаривать его всякими гостинцами? Ты что думаешь — без матери за ним догляду нету? Что без тебя не обойдутся? И хватает у тебя совести, бесстыжие твои глаза!