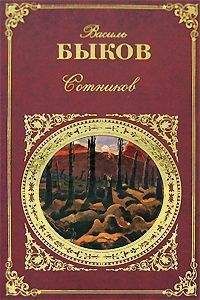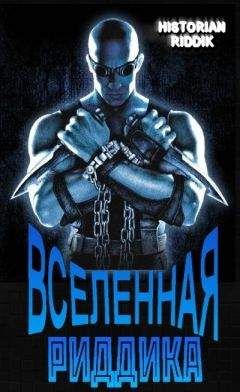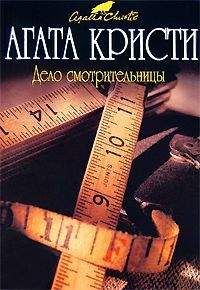Иван Свистунов - Все равно будет май
— Завтра обратно? — спросил генерал, откладывая в сторону бумаги. — Ужинали? Где ночуете?
— В первом полку, товарищ генерал. Там и повозочный мой остался.
— Обратно отправляйтесь вечером. Спокойней. А завтра днем отдыхайте. В баню можно сходить. Баня у нас настоящая, мирных времен. Такой во всей армии нет. Ну, желаю здравия! Время позднее, а вы с дороги, — и сильно пожал руку Полуярова.
Утром Полуяров и Фокин решили воспользоваться заманчивым предложением командира дивизии и сходить в баню. Кто спал два месяца не раздеваясь, кто ночевал в блиндажах, в избах, только что брошенных отступившими гитлеровцами, или просто в кузовах грузовиков, тот понимает, что такое настоящая русская баня с горячей водой, мылом, веником, паром.
Проинструктированные в штабе полка, как добраться к бане, и предвкушая предстоящее наслаждение, Полуяров и Фокин отправились в путь. Собственно, баня была почти рядом, но открытое пространство, за которым она находилась, простреливалось гитлеровскими снайперами, и надо было идти в обход, вдоль домов, делать изрядный крюк.
Выйдя на площадь, где темнело кирпичное здание бани, Полуяров и Фокин почувствовали нетерпение, даже боязнь, что баня исчезнет, как мираж.
Утро выдалось солнечное, морозное, ночной снежок, еще не тронутый солдатским сапогом, искрился и переливался. Не слышно и немецких снайперов. И вообще вокруг тишь да благодать.
— Махнем напрямик, — предложил Полуяров. — Тут всего три минуты ходу.
— Можно, — флегматично согласился Фокин. С больными ногами ему тоже не хотелось плутать по задворкам.
Но не успели они дойти и до середины площади, как неизвестно откуда выпущенная пуля тонко взвизгнула у уха Полуярова. За ней вторая, третья… Взрывая стеклянную пыльцу, они тыкались в снег. Стреляли явно по ним. Старший лейтенант и повозочный дружно повалились на землю.
Глупо лежать на открытой со всех сторон площади, как на белом блюде. Ползти назад! В этом было что-то обидное, как-никак приехали они из штаба армии. Да и кто гарантирует, что при ретираде немецкий снайпер не всадит пулю в зад. Не лучшее место для ранения.
Все взвесив, Полуяров крикнул:
— Вперед! — и, подхватившись, бросился к бане. Сзади засопел, усердно молотя снег валенками, Фокин.
Добежали благополучно, если не считать, что одна шальная пуля вырвала клок из опущенного уха фокинской шапки.
— Видать, счастлив мой бог, — тяжело отдувался повозочный, рассматривая дыру. — Такая штука похуже ревматизма.
Несмотря на ранний час, баня шумела. Когда и помыться солдату, как не в обороне! Пристроив свое обмундирование и автоматы в предбаннике, Полуяров и Фокин с трепетом и замиранием сердца переступили порог парной.
Все было как в сказке! Горячий пахучий пар ходил тугими волнами, захватывавшими дух. Журчала, плескалась и пела вода. Вздохи, охи и ахи, блаженно-счастливые восклицания: «А ну, поддай еще!» «Три ее, анафемскую, промежду лопаток!» «Обдай горяченькой!..» — сливались в радостный хмельной гомон.
Праздник плоти, да и только!
Полуярову показалось, что никогда в жизни он не испытывал большего удовольствия. Распаренное красное тело дышало всеми порами. Хотелось без конца сидеть на теплой мокрой лавке, погрузив ноги в шайку с горячей водой, и дышать жарким волшебным паром.
— Пивца бы теперь испить, — мечтательно вздохнул Фокин и смачно крякнул. — Или по крайности кваску забористого, чтобы душа встрепенулась.
Было такое впечатление, что они смыли с себя все тяготы и усталость долгого зимнего наступления и опять полны сил, бодрости и никакая война им теперь не страшна.
Внезапно дверь с грохотом отворилась, и в баню вместе с морозным клубком воздуха ворвался пронзительный, как разрыв мины, голос:
— Немцы! В ружье!
И сразу же с дребезгом и визгом посыпались оконные стекла, — видно, прошлась по ним меткая очередь.
Замешательство длилось одно мгновение, не больше. Никто не крикнул: «Слушай мою команду», никто не приказывал, может быть, потому, что все были без знаков различия, в чем мать родила. Просто полсотни голых, распаренных, мокрых, намыленных тел бросились в предбанник.
Одеваться не было времени — никто и не одевался. Хватали свои винтовки, автоматы, гранаты и голыми выскакивали наружу.
Полуяров по рассказам знал, что есть такие любители, особенно сибиряки, которые выбегают из горячей парной голыми на улицу, кувыркаются в снежных сугробах и потом, как ни в чем не бывало, снова отправляются париться.
Такую экзекуцию над собственным телом он считал дикостью, варварством и уж сам ни за какие коврижки по побежал бы голым на мороз.
Так ему казалось раньше. Теперь же, схватив автомат, он вместе с другими бросился к выходу. За ним, тоже с автоматом и тоже голый, только словчившийся сунуть больные ноги в валенки, выбежал и Фокин.
Сразу же за баней начинался неглубокий овражек или русло речки, занесенное снегом. На той стороне овражка, в кустарнике, копошились гитлеровцы. Они перебегали от куста к кусту и вели беглый огонь по бане.
Полуяров упал за сугроб и, прищурив левый глаз, прицелился. Короткие его очереди терялись в беспрерывном ожесточенном огне остальных бойцов.
Схватка продолжалась считанные секунды. Не ожидая, как видно, такого отпора, гитлеровцы, слабо отстреливаясь, все дальше и дальше уходили в лес. Вскоре все смолкло.
Полуяров поднялся. Странная и неправдоподобная картина была перед ним. Голые мужчины, красные, распаренные, стояли в снегу с винтовками и автоматами в руках. Редко кто был в подштанниках, нательной рубахе или валенках, как Фокин. И то лишь те, которых в таком виде застал крик «Немцы!».
С шутками и смехом — благо не было ни убитых, ни раненых — бойцы возвращались в баню домываться. От снега и мороза их тела еще больше раскраснелись, дышали паром.
Полуяров спокойно, словно всю жизнь так делал, ступал босыми ногами по снегу, снежная пыль пристала к его бедру и боку, но ему не только не было холодно, но даже блаженная приятная теплота наполняла тело.
— Теперь, товарищ старший лейтенант, можно сполоснуться горяченькой, — весело проговорил Фокин, совсем не похожий на того угрюмого и молчаливого повозочного, каким он был до бани.
Вечером перед отъездом старший лейтенант Полуяров пошел доложить командиру дивизии. Генерал сидел за столом и что-то писал. Поднялся навстречу Полуярову. Был так же выбрит, наодеколонен, наутюжен. Значит, такая уж у него привычка.
— Уезжаете? Ну что ж, желаю благополучного пути, товарищ старший лейтенант. Будь моя воля — не отпустил бы. Мне штыки нужны. — В том, что генерал второй раз завел разговор на такую тему, виден был свой расчет: там, в штабе армии, старший лейтенант, конечно, расскажет и об этом и авось смилостивятся, подбросят… Чуть сузив глаза, командир дивизии спросил:
— А баню нашу посетили?
— Спасибо, товарищ генерал. Помылись.
— Пар был?
— И пар был, и жар был. Даже больше чем достаточно.
— Вот и хорошо. Я и сам, грешный человек, люблю, чтобы баня горячая была. Русская, с паром, — и улыбнулся. Видимо, знал об утреннем происшествии. — В московской квартире и ванна, и душ, а все же раз в неделю в Сандуны ездил.
Уже уходя, Сергей Полуяров машинально глянул на стол, за которым работал генерал. На столе стояла небольшая фотография. Узнал сразу: Нонна!
Ошеломленный, Полуяров невольно задержал взгляд на фотографии. Генерал перехватил этот взгляд. Что-то тоскливое появилось в его красивых светло-карих умных глазах. Повторил сухо:
— Желаю благополучного пути! — но руки не подал.
Полуяров вышел. Фокин покорно переминался у розвальней.
— Поехали?
— Поехали!
Лес начался сразу с окраины городка. Лошадь шла споро. Фокин, радуясь скорому возвращению во взвод, несколько раз заговаривал со старшим лейтенантом, но тот, подняв ворот полушубка и натянув ушанку, лежал на боку молча.
…Вот, оказывается, кто такой боевой генерал Душенков! Муж Нонны. С ревнивой придирчивостью вспоминал Сергей Полуяров каждое слово, каждый жест командира дивизии. И не мог найти ничего неприятного, отталкивающего. Красивый, культурный, доброжелательный, простой в обращении генерал…
Такого и могла полюбить Нонна.
4Случилось так, что за начальные пять месяцев Великой Отечественной войны политруку Алексею Хворостову пришлось участвовать в наступательных боях только в декабре сорок первого года. И как это ни парадоксально, ему показалось, что наступать труднее, чем отступать.
Бегут гитлеровцы от Москвы. Пятнадцать, а то и все двадцать километров отмахивают они за день. Но отступают налегке, бросая все нужное и ненужное, отступают, зная, что вечером будет у них теплый ночлег и обильная жратва. Отступающие всегда едят сытно!