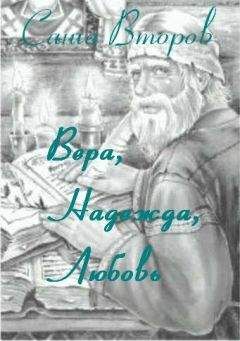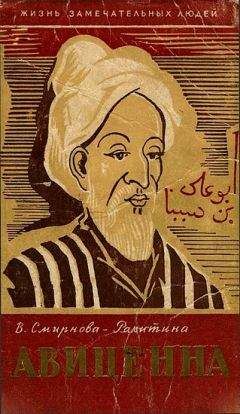Вера, Надежда, Любовь - Ершов Николай Михайлович
XVII. СЛИШКОМ ДОЛГАЯ НОЧЬ
В комнате отца Александра главным предметом была лампа в семьдесят пять ватт. В ее лучах были объективность и прямота. Вот книга лежит на столе, а на книге шевелит усами таракан. Несовместимые вещи, конечно. Но лампа освещает все четко, все называет по имени.
Отец Александр проснулся внезапно, словно была у него цель, которую нельзя проспать. Он повернул выключатель и долго стоял посреди комнаты под этой лампой. Цели не оказалось, лучше бы он спал. Если бы можно было не думать, забыть все! Но опять — в который раз! — мысль двинулась по тем же тропам — му́ка, похожая на бесцельную переноску камней. Неожиданно для себя самого он запел:
Откуда-то явилась вдруг эта песня. То ли он слышал ее когда? Пусто-пусто… Лампа светила все так же трезво и голо, освещала ровно и книги, и тарелку с пирогом, и пепельницу с окурками, и человека, который не знал, как жить.
«Какое странное у нее (у Надежды) движение, — вспомнил отец Александр. — Все вперед — и взмах головы, и взгляд, и жест руки, короткий и четкий, как на египетской фреске». Он попытался повторить — не вышло.
Зато сердце, коснувшись Надежды, потеплело, тайная радость поднялась в нем, как на зов, и стала нарастать очень скоро. Еще не поздно было остановить этот прилив, но он и не стал его останавливать. Пусть будет прилив.
Он предвидел потоп. Стихия хлынет поверх логики. Замкнутые круги будут прорваны, тупики обратятся в площадь, овеянную свежестью и такую просторную, что боязно пересечь напрямик. А после — будь что будет! Авось не будет хуже, чем есть. Да, да, да! Вот так, сознательно, трезво, расчетливо призвать на помощь свою способность воспламеняться, кликнуть черемуховые, заросли, соловьиные ночи и все шальное богатство, которое он еще носил в себе. Открыть все шлюзы и — айда потоп! Любовь — вот что разрубит узлы. Это на счастье она явилась, на счастье!
Александр принялся ходить. Мысли его были ночные, нетрезвые. В таких больше истины — он проверил не раз. Надо было действовать, пока не пришло утро и пока при свете дня не явилось постное благоразумие. Он надел плащ без колебаний.
Кромешная темь встретила его на самом пороге. До водяной колонки у перекрестка он шел ощупью, угадывая дорогу по одним только редко светящимся окнам, пока не привык к темноте. Телеграф помещался на Первомайской в кирпичном доме с резным крыльцом. Александр долго не мог этот дом найти. Ну и ночь! Сам черт не мог бы так хитро перепутать все, сделать все таким непохожим.
Резное крыльцо, наконец, отыскалось. Дверь подалась, но не настолько, чтобы войти. Заперто, что ли?.. Александр принялся стучать. Минуту спустя женщина ему отворила. Она налегла плечом на дверь и поддержала ее, пока ночной посетитель не вошел. Она удивлялась:
— Дикий народ какой-то. Прямо дикий! Открыто, а он стучит!
Оказалось, дверь была снабжена пружиной, человек с заурядной мускулатурой войти в помещение не мог.
— Бланк, пожалуйста! — потребовал отец Александр.
— На столе бланки. Не видишь, что ли?
«Срочная. Здесь. 6-я Вокзальная, 14, кв. 27. Ворониной Надежде Федоровне». Отец Александр задержался на этом. Дальше следовало написать: «Я люблю вас. Спасите меня. А л е к с а н д р». Он пришел, чтобы сделать как раз эту дерзость в шести словах. Только эту…
Дежурная телеграфистка зевала. «Поп!» — вдруг узнала она. И Александру сейчас же представилось, как через день город по обе стороны реки будет говорить только об этом: поп влюбился. Сорвалось. Такую телеграмму можно было послать лишь оттуда, где тебя не знают. «Может, доехать до Свияги? — подумал он. — Как доедешь ночью? Поезда нет, катера нет, попутной машины тоже, пожалуй».
Телеграфистка разглядывала его в упор, без стеснения. Александр чувствовал на себе ее взгляд и сознавал себя виноватым, обязанным написать теперь уж хоть что-нибудь. Он написал:
«Дорогая Надежда Федоровна, сердечно прошу принести (зачеркнул) вернуть книги, которые мне очень нужны. Александр (зачеркнул) О т е ц А л е к с а н д р».
К середине ночи стало еще черней. Ветер гудел и гудел.
Жизнь меняется ночью. Ночью начинается ледоход, по ночам во сне растут дети, ночью пекут хлеб и пишут лучшие строки. Любовь нетерпеливо дожидается ночи. Поезда по ночам пересекают большие пространства, торопясь поспеть куда-то к утру. Непременно.
Ветер все гудел. Ветер нес с собой дух перемен. Что-то незримо переворачивалось, укладывалось и переворачивалось вновь. Как будто перемещались и укладывались заново тяжелые пласты земли, воды, воздуха и всего другого, из чего составляется жизнь. Это был тяжкий и долгий труд. К утру ему назначено было завершиться.
Люба сидела в постели, укрывшись до подбородка, и с удивлением смотрела из темноты в другую комнату, где мать и обе старухи колдовали над раскрытым сундуком.
«Бога нет. Бога нет. Бога нет», — повторяла Люба про себя, силясь постичь значение этих слов. Значения никакого не улавливалось, но Люба упорно думала.
Она боялась пустоты. Если надежду, любовь, и веру, и радость всякую, и все другое хорошее, что должно называться именем «бог», — если это убрать, что же останется?
— Труха одна, — сказала мать странным образом, в тон.
Она рассматривала шаль, которую давно не доставала из сундука и которую съела моль.
— Вот-то надо было табаком пересыпать, — не то съязвила, не то пожалела одна из старух. Не то Дарья, не то Алевтина.
Будто бы в первый раз Люба увидела старух такими нелепыми. Они вылезли из какого-то старинного сундука с самого дна. Собираются уходить. Будут скитаться где-нибудь месяца полтора — по селам, по пристаням, по церквам. Чепуху какую-нибудь будут нести — про ангелов, которые летают «конвейером», про конец света, но вернутся с деньгами, с подарками. Привезут Любе какое-нибудь старенькое платьице с барахолки: «Носи, ясочка наша, касаточка». Любе стыдно будет. Но потом это платье она постирает, погладит и будет носить.
Собираются тайно от Любы, думают — она спит. А Люба все слышит.
— Голодранцев-то нигде не жалуют, — бубнит Дарья. — Они небось на дарах и зиждются, монастыри-то. Подарок бы надо игуменье. Поросеночка, полушалок какой-никакой…
— Поглядеть еще, какова игуменья!.. — возражает мать. — Их нынче, таких-то подарковых, как собак нерезаных.
— Хватит чернословить тебе! Неуемная! Бог-то, он видит…
«Бога нет. Бога нет. Бога нет». Люба думала: радость существует от века, сама по себе. Но есть только то, что видно: тьма за окном, вот этот дом их старый, на керогазах варят требуху… Ночь — это от суточного вращения Земли. Дом их весь состоит из атомов и молекул. Требуха и та из атомов. Что же ей делать, Любе? Мир должен рухнуть. Вот этот потолок с потеками упадет, ломая гнилые балки, скрипучую дверь. Пусть он погребет под собой вонючие керогазы и весь ее долгий стыд.
— Яички заверни в тряпочку, — хлопотали старухи. — Сольцы в спичечный коробок…
Экскаватор за рекой все работал. На стреле у него была та же прожекторной силы лампа, от которой здесь, в комнате, ходили тени и делали все зыбким. Но так лишь казалось — зыбко. Экскаватор трудился напрасно, напрасно он раскачивал этот мир. Мир был прочен. Как печь вот эта — вся закопченная, тяжкая, нескладная, с большим черным зевом, прикрытым заслонкой. Разве можно ее пошатнуть? «Бога нет. Бога нет. Бога нет». Люба почувствовала слабость и тошноту.
— Касаточка наша, ясочка! Ты что встала, детка? Спи себе…
Алевтина умильно коснулась ее плеча. Люба видела, как Дарья и мать заслоняли собой котомки. Боялись, как бы Люба не спросила, куда это они собрались. Но Люба и не хотела ни о чем спрашивать. Она вышла на ветер.