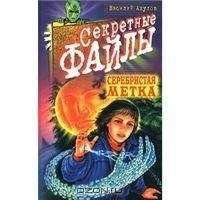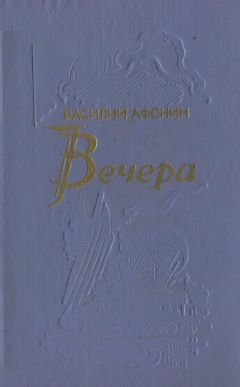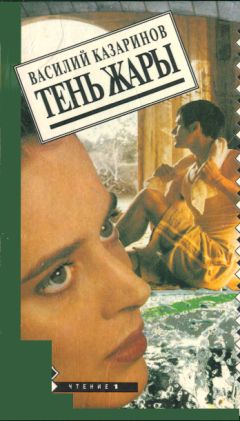Анатолий Кончиц - В краю родном
Попутчицы мои, о чем-то щебеча, скрылись за поворотом, а я погрузился в какой-то мираж, будто дорога поднимается не на холм, засеянный рожью, а прямо в светлое небо. Мне казалось, что еще немного, несколько шагов и я вскарабкаюсь туда, усядусь на облаке и стану смотреть на спящую землю. Увижу эту дорогу, свою деревню, реку, заливные луга и озера, седенький туман в низинах.
На всю жизнь у меня осталось ощущение мимолетного счастья на этой дороге среди поля ржи.
8И вот всю зиму я с нетерпением дожидаюсь лета и отпуска, чтобы поехать к себе в деревню. Товарищи соблазняют меня домом отдыха, теплым морем, но тщетно.
Все явственнее я слышу родные голоса. Они как будто и не зовут меня, а просто переговариваются между собой о чем-то будничном, повседневном:
— Ты, старик, сходил бы за реку посенокосил.
— Да ведь еще рано, поди-ко, — бубнит дед, которому идти никуда неохота.
— Люди-то ведь уже сенокосят, — слышу я укоризненный бабушкин голос. — А у нас и косы не выточены. Не век же на печке лежать, и так уж все бока отлежал.
И потом я вдруг вижу свою избу, вроде со стороны откуда-то. Стоит раннее утро. Бабушка вышла зачем-то на крыльцо, спина ее согнута, огляделась кругом, приметила, быть вёдру или ненастью, есть ли роса на траве, как идет дым из трубы у соседей, стелется по земле или валит столбом к небу. А соседи еще и печь не затопили. Вот бабушка и радуется: «Ну-у, дак я нынче не проспала, рано встала».
Потом сошла с крыльца под окошко взять дров из поленницы да потопить печь хоть немного, летом жарко топить ни к чему. Только бы воды согреть для коровы да картошки чугун сварить…
Но вот голоса и видения уходят от меня, отступают под натиском быта, суеты, повседневных моих обязанностей.
Приходит, однако, лето, все ближе отпуск, и беспокойнее на душе, а вдруг что-нибудь остановит меня, задержит? Перестанут ходить поезда в те края или заболею? Или деревню мою убрали за ненадобностью и осталось на том месте ровное, пустое пространство без примет человеческого деяния? Вырос густой лес?
Быть такого не может, упрекаю я себя, как же человеку жить на свете без родного угла? Хотя сам-то знаю, что всякое случается на свете, потому как видал пустые деревни, засеянные крапивой. Хорошо еще, если родное место распашут да засеют рожью, и то хорошо.
Иной раз мелькнет в голове трезвая мысль, для чего туда ехать? Ведь там никого уже из родных не осталось, никто не встретит, не обнимет, не улыбнется, не уронит слезу? Но вот надо ехать, тащит какая-то сила, не велит слушаться трезвого голоса рассудка. Пытаешься понять, уразуметь эту сокрушительную силу, а она только об одном и твердит: «Надо так, да и все».
Ну раз так надо, вот и еду сутки, другие, добираюсь на поезде, на автобусе, пешком упорно, как та рыбина, которая, обдирая бока, рвется вверх по ручью метать икру, или птица, которая не одну тысячу километров машет крыльями, мозолит тело, чтобы свить гнездо среди невзрачного болота. Зачем ей это надо, поди ты пойми. Просто там место ее родное, а по-другому и не объяснишь.
Уже издали ищу глазами свою избу. За зиму она еще как будто больше осела в землю, потемнела, скособочилась. Двор и огород заросли травой, крапива буйствует вровень с крыльцом, двери ста́и растворены настежь. В общем, вид печальный, не радостный для меня.
Управившись до вечера со своими небольшими делами, приспособив жилье для ночлега, выхожу посидеть на крыльце, посмотреть, как закатывается солнышко. На старой елке у огорода все еще освещена вершина, горят в солнечных лучах медные шишки. Все тихо и умиротворенно кругом.
И вот все дни моей жизни перемешиваются, так что и не поймешь, где начало, а где теперешний день. В какой-то краткий миг кажется, что скоро придут люди из-за реки. Мать погладит мою стриженую голову и спросит:
— Заждался? Ну вот, а я тебе гостинец принесла.
И подаст веточку черемухи со спелыми ягодами. А бабушка пересыплет из подола в лукошко смородину и скажет:
— Вон сколько смородины насобирала, пока шла домой.
И рассмеется, довольная собой. Дедушка положит на крыльцо охапку травы и скажет:
— Ешь, вот тебе кислица.
И я долго сижу на крыльце, прислонившись к шероховатой, все еще теплой стене избы, почти физически ощущая любовь тех, кого уж давно нет на свете, и душа моя набирается силы и покоя.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Когда меня привезли из эвакуации в освобожденный от немцев поселок, а его бомбили и свои и чужие, я многое узнал о руинах и развалинах, и запах какой-то особенный, въедливый, мертвый и пыльный, Но ни страха я не испытал, ни ужаса, а одно только тупое удивленье: зачем все это? С этим удивленьем я и остался на всю жизнь.
Я был тогда невелик, мне было около восьми годов от роду, и поэтому мало что знал и понимал. Война и руины никак не укладывались в моей голове. Весной я видел, как начинает зеленеть трава, деревья, то есть вокруг меня была жизнь, и никто ей не мешал, а тут развалины, запах смерти…
Нам дали от завода комнату в уцелевшем доме, и мы перетащили в нее свои нехитрые пожитки: зеленый сундук да пару узлов с тряпьем. Это была просторная комната с деревянным некрашеным полом и совсем пустая. У потолка висела голая лампочка. Ни стульев, ни табуреток, ни стола, ничего не было.
Мой младший брат сидел на узлах и улыбался, вроде говорил всем, что мир этот очень хороший и ему нравится жить. Потом он попросился в уборную, и мне пришлось вести его в наспех сколоченное из неструганых досок сооружение без дверей. Едва я сунулся туда, как тут же выскочил. Там сидели две наглые жирные крысы. Они просто лоснились от сытости, что меня сильно поразило, так как с едой после войны было плохо. Не знаю, тогда мне пришло в голову или потом, что крысы и война с ее разрухой, голодом и смертью неотделимы друг от друга…
Мне не хочется вспоминать о тех временах, выпячивать нужду и тоску своего поколения, но я бессилен.
Те годы казались мне сплошным горем, хотя люди и радовались победе, миру и тишине. Отец мой радовался больше всех. Все будет хорошо, рассуждал он, вот буханка хлеба есть, крыша над головой есть, тепло и сухо, не бомбят, не стреляют. Что еще надо человеку? Жизнь наладится.
А я тосковал, глядя на руины, на грязь, битый кирпич и битое стекло. И все недоумевал, что же это натворили люди, зачем все разрушили, поломали? Это недоуменье так и осталось у меня с тех пор, хотя я отчасти и прозрел многое, понял насчет мира и войны.
Мои сверстники знали больше меня, потому что вернулись из эвакуации раньше — одни с Урала, другие из Казахстана. Они мне объяснили, что завод восстанавливают пленные и по утрам они ходят колоннами на работу.
Как-то я проснулся очень рано и увидел в окно эти серые колонны. Они шагали в ногу — серая одежда и серые лица. Я со страхом отпрянул от окна. Мне показалось, что это крысы, а может быть, они и пострашнее крыс, потому что убивали нас. Таково было первое впечатление.
За свою жизнь я прочитал немало умных и поучительных книг, шедевров, но все их содержание меркнет, когда я вспоминаю те годы моей жизни…
ЕДАВ очередь за хлебом в поселке становились еще до восхода солнышка. Хлеба давали помалу.
Я помню эту плотную очередь, тянущуюся вдоль кирпичной стены дома. Стену так отполировали телами, что она лоснилась. Люди будто навсегда прилипли к ней и слиплись друг с другом, никакими силами их не разодрать. Беда, если кто выходил из очереди, если человека некрепкого выдавливали оттуда. Обратно уже трудно было втиснуться. Я и сам стоял часами у этой стены, ощущая всем телом каждую мышцу и кость соседа. И тепло чужого человека не казалось мне чужим, чужой пот и запах не казались мне чужими, как будто я часть большого организма у этой стены.
Когда приходил отец, чтобы меня сменить, и я с трудом выдирался из очереди, то долго не мог привыкнуть, что вокруг моего тела пустое пространство, гуляет ветер и можно двигаться свободно. Нет передо мной жесткой спины небритого мужика, а позади мягкого живота бабы, к которому я будто прирос, ее дыханья на моем затылке и шевеленья мышц. Грудь моя не сжата, и дышится легко.
Вот отец занял мое место, и я знаю, что о хлебе беспокоиться не надо, буханка достанется. Впрочем, случалось, что хлеба всем не хватало, но очередь не верила этому и все стояла да стояла с отчаянной надеждой.
На худой конец у нас дома был небольшой запас черных сухарей, которые я размачивал, посыпал солью и ел.
Сам не помню своего тогдашнего тела, но мать всегда говорила с жалостью: «Худышка ты мой». И столько было тоски и надежды в ее словах, что я чувствовал, как подступают слезы и нет никаких сил удержать их. Позже я узнал, что до меня у матери было двое детей, которые умерли, прожив одинаковое время. И вот она боялась, как бы не умер и я.
Конечно, я был худой. Все дети в ту пору были худые и прозрачные, словно сосульки, все недоедали. Не знаю почему, но многие ребята выходили в подъезд или на улицу с куском хлеба и ели при всех. Может быть, чтобы похвалиться, что вот у меня есть хлеб, а у тебя нет. Этим завоевывался на какое-то время короткий авторитет. Не считалось зазорным попросить: