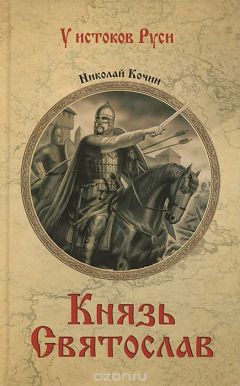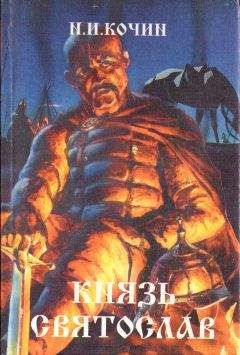Николай Кочин - Девки
Народ густел, лица веселели, размыкались уста: взбудораженные игривостью, задние ряды не сдержались, толкнули впереди стоящих — и людская волна захлестнула просвирню.
Высоко вскидывая руки, с оторопью на лице бросилась она к нижнему порядку, а следом несся шум, свист и выкрики:
— Попова угодница!
— Казанской сиротой прикидывается!
Этим было положено начало Марьиной привязанности к Шарипе.
Вынужденная никуда не отлучаться, Марья была рада, что Шарипа готова заниматься с ней. Марья находила успокоение, проходило время, отгоняло тоску.
Наступила коренная жара. Лук в огороде пустил тонкую стрелку, вишня из зарево-багровой превратилась в кроваво-черную, поспевшую для еды. В черемушнике мухи справляли над головами летнюю музыку.
С утра орали петухи, полчища кур шныряли под кустами малинника, разрывая мусор. Марья выгоняла их в соседские огороды. Ей было скучно. Она ждала подругу с нетерпением, потому что угадывала какое-то движение на улице.
Примечательным показался ей разговор между отцом и матерью в чулане.
Шарипа через дыру частокола проникла в сад. Марья сбивала колом яблоки, стоя на табурете. Жаром красилось ее лицо, косы на голове были уложены по-бабьи, кренделями.
— Ах, как ты долго, — наклонившись под сучком, упрекнула Марья подругу, — я будто в остроге. Мама следит, тятя следит, другим следить наказали. А мне от этой опеки — тоска. Людей не вижу сколько время.
Она спрыгнула с табурета, высыпала в подол Шарипе нарванный анис и, поправив платье из кремовой бязи, прибавила:
— В селе не переставаючи идет тревога, а отец с матерью разве скажут? Ты тоже словом не обмолвишься, — а как мне жить без разговоров, без своих людей? Ни совету, ни привету. Соседи и те не разговаривают.
Она уселась на траву, подобрав ноги калачиком, и пристально поглядела на Шарипу. Та оживленно засуетилась, обняла Марью и повела ее к малиннику. Там они сели на скамейку в тени рябины.
— Видно, голова у меня с жару разболелась, — вымолвила Шарипа.
Вид у ней в самом деле был невеселый — излишней оживленностью она пыталась прикрыть какие-то запрятанные вглубь чувства. И когда Шарипа начала читать про Настасью Золотую косу, Марья сразу учуяла, что Шарипе не до чтения.
Сказки понравились Марье — она успокоилась тем, что в мире нередко встречаются люди, столь же обиженные, как и она, и очень хорошо было придумано, что обиды все-таки искупляются под конец радостями. В это хотелось верить.
Постоянно после чтения таких сказок, глубоко и облегченно вздыхая, она говорила:
— Жалостливый человек эту книжку выдумал.
— «В некотором царстве, — начала Шарипа, — в некотором государстве, а именно в том, в котором мы живем, был-жил царь Бел-Белянин, у него была жена Настасья Золотая коса и три сына: Петр Царевич, Василий Царевич, Иван Царевич. Пошла царица со своими мамушками, да нянюшками по саду погулять, цветочков понабрать, и отколь ни возьмись сильнеющий вихрь и, боже мой, — схватил он царицу и унес неведомо куда. А царь Бел-Белянин запечалился, закручинился, не ведает, как ему быть...»
Марья недовольно прервала чтение:
— Почему это так устроено, что каждый раз обижают хорошего человека? Плохому и золото достается, и невеста красавица, а хорошему страдать положено и убиту быть, а если не убиту, то каждый раз на него валятся напасти ни за что, ни про что. — Помолчала. — И в семейных делах все стало переменчиво. Раньше выходили замуж и хорошо ли, плохо ли жили, виду не показывали. А ноне каждый из нас на всякие огласки рукой машет. Не разберусь — оттого ли это, что стали мы все безбожницами, да непослушными для родителей, или темнее народ был прежде?
— Темнота, я думаю, тут роли не играет, — ответила Шарипа, — бывает так, что очень книжные люди тоже друг с дружкой сойтись не могут — этот думает так, а другой иначе. Жизнь совсем стала другая.
— Вот-вот, — подхватила Марья. — Раньше бабы на сходки стыдились ходить, мужики бы за это запозорили. А ныне сами мужики к этому начали привыкать. Только не каждая понимает, что и как... Вон на селе Анныч общую жизнь, слышно, строит. А что она такое, общая жизнь?
— Анныч собирает народ, чтобы одной общей машиной всем владеть и землю пахать, и на мельнице сообща работать. Мельницу у Канашева отбить думает. Удастся ли только? Хитрущий он дьявол, твой Канаш. А на селе такие волнения ходят, что не перескажешь — суматоха, крик, собрания! Беднота лесу просит, подвод просит. Деревянные у нас постройки есть, общественные, гниют, а беднота в землянках жить продолжает. Сегодня опять сходка будет.
— Голубонька, Шарипа, возьми меня с собой, — начала проситься Марья, — людей на сходке послушаю, хоть издалече. Мы за плетень спрячемся, никто нас не увидит. Душа у меня по людям соскучилась.
Они вышли задами и, обогнув плетни, укрылись за погребом, подле околицы. Тут стоял целый поселок погребов — в них сохранялись крестьянские соленья, капуста, огурцы и моченые яблоки. Немытая Поляна издавна славится садами. Густые ряды амбаров вплотную подходили на пологом месте к ключу. Одаль ключа виднелось пожарное депо с худым лагуном и машиной без насоса. [Лагун — бочонок.] К пожарному депо примыкала зеленеющая луговина с мирским колодцем посреди и водоем для скота. На этом месте удобно располагался народ на сходках, сидя и лежа, амфитеатром; в кругу амфитеатра обычно размещался президиум.
Началось собрание в полдень.
Переднее место подле президиума заняла молодежь. Мужики садились компаниями поодаль. Бабы и девки, стоя, окружили сборище ситцево-белой подвижной стеной. В канаве баловались дети.
Несдерживаемый ропот разрастался в передних рядах. Среди мужиков царило напряженное спокойствие. Они лежали животами книзу, склонив головы, и говорили невнятно в траву.
Пропадев угрюмым окриком призвал к порядку, нехотя, глядючи в землю, доложил о настоятельном желании погоревших общественно обсудить их неотложную нужду.
Долго никто не хотел говорить первым. Разрасталась нетерпеливая волна шепота. Чего-то выжидали. Из передних рядов парни вытолкнули на середину своего представителя. Они ободряли его дружными поощрениями.
Мощная, в холщовом облачении, фигура Саньки с ремнем, перетянутым за плечо, очутилась на виду у всех.
Выкриками, как по-писаному, выкладывал он мужикам, что сорок семей живут в банях, сараях и землянках, что осень близко, что улицы совсем скоро забуреют грязью... Голова его кружилась, во рту высыхало, рукой он тыкал в сторону — там торчали трубы от сгоревших зданий, и жуткая полоса золы и пепла ложилась от Канашева двора по бедняцкому концу, сбегая в овраги.
Вся середина села была завалена горелым мусором и ворохами камней от развороченных печек. Обугленные бревна и куски тесин в беспорядке стасканы были на дорогу — ни проезду, ни проходу. Разобнаженными стояли сады, ближайшие к избам яблони обуглились. Груды снятой с поветей соломы втиснуты были посередь деревьев еще во время пожара, да так и остались там. Лишь на конце Голошубихи к оврагу, где теснились избы без дворов и огородов, сохранилось десятка полтора хат. Более имущие погорельцы успели поставить в садах на скорую руку амбары, в которых и жили, но многие, за неимением амбаров, ютились по сараям и баням. Были и такие, что коротали дни в землянках. Только человека четыре из наиболее крепких домохозяев пытались строиться, свозили к пожарищу трубы, тес, переметник и жерди. [Переметник — жердь или хворостина на скирдах или соломенных кровлях для прижимки соломы.]
Марья отвела от этой картины глаза, и судорога прошла по ее телу. «Из молодых, да ранний, — подумалось ей про Саньку, — приучился в пастухах к смелости». Никогда она раньше не останавливала своего внимания на фигуре этого парня, которого девки презирали; пастух на селе считался искони последним человеком. А сейчас он напомнил ей чем-то Федора, сладкая мука обняла сердце.
— Это лихолетье пристигло нас не впервой, — указывал между тем Санька на пепелище, — горим и строимся, а обстроимся — опять сгорим... Точно по расписанию, каждые пять лет! Денег уходит тьма-тьмущая, а конец один, живем в землянках. А отчего? От общего бескультурья.
— Про это и калякал бы, — поддакнули ему.
Санька опять рассказал про темноту, про старый быт, который надо менять. По инициативе группы бедноты поднят вопрос о шефстве над погорельцами, пожелавшими работать впредь сообща. Сормовские рабочие откликнулись на призыв — взяли шефство. «Это усилит союз рабочих с крестьянами, — пояснил Санька. — Съезд индустриализации осудил оппозицию, не верящую в союз крестьян и рабочих». Подводится база под сельское хозяйство... Нижегородская электростанция дала энергию заводам. Осветила близлежащие колхозы.
— Вот послушайте, что скажет делегатка, ездившая к шефам, Секлетея. Она на опыте своей жизни узнала, что значит темнота.