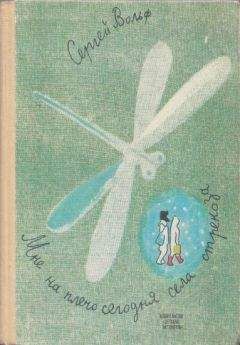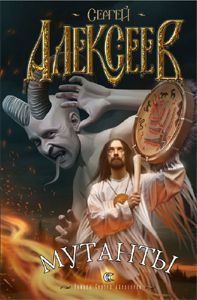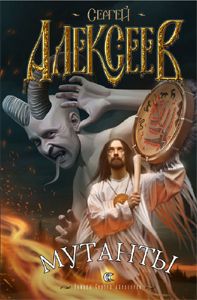Сергей Лисицкий - Этажи села Починки
— День добрый! — щурится на солнце подъехавший на велосипеде почтальон.
— Здорово, Егор Петрович, — улыбается Тимошка.
— Четвертую бригаду решил навестить, — протягивает он Мите конверт, — и к вам вот по пути. Жарко больно…
— Жара, — соглашается пастух и смотрит на мокрые плечи почтальона.
— Бать, а бать, из Воронежа прислали. Зачислили меня, — радостно говорит сын, когда Егор Петрович уехал.
— Зачислили?! — удивленный и радостный смотрит отец. — Ну, Кузьма Иванович, спасибо ему. Направим, говорит, за счет колхоза, и направил. Спасибо! — убирает он сумку. — Что ж, сынок, езжай, учись. — Лицо его светится радостью.
— Однако пора, — смотрит он на солнце.
Грачиха уже поднялась, за нею поднимаются и другие.
— Гей-гей! — звонко кричит Тимошка.
Они гонят стадо на луг, за водяную мельницу, которой давно нет, только на бугре осталось несколько почерневших свай, да половина расколотого жернова, служившего когда-то порогом.
Отец и сын идут в разных концах луга. Один со стороны дороги, направляя стадо на Данильскую ложбину, а другой с противоположной стороны контролировал Грачиху, которая успела забежать в кукурузу. Каждый думал о своем. Митя — о новой для него студенческой жизни в городе, об отце, который останется один со стадом. Ему было и легко и вместе с тем почему-то грустно. А отец видел сына уже агрономом, серьезным, взрослым человеком, которого все называют Дмитрием Тимофеевичем.
«Чудно поворачивается жизнь», — вслух размышлял он.
Смотрит Тимошка кругом и как будто впервые видит и эту степь, и луга, и небо.
Лодка на двоих
Памяти Дм. Хижнякова
Давно, почитай всю зиму, не бывало такого ясного и лучистого неба. Прозрачный воздух струится светом и теплом, он, кажется, звенит. Или это в ушах звоны?.. Нет. Сегодня громче обычного чирикают даже воробьи, и за их неугомонным чириканьем нет-нет да и послышится серебряный, переливистый голос первой овсянки: «Покинь сани, возьми воз! Покинь сани, возьми воз!..»
Задумчив и светло печален наш сад. Развесистые ветви яблонь тянутся вверх, к весеннему теплу и свету, высокие шершавые стволы груш посветлели, а вокруг их комлей уже затемнелись оттаявшие снежные лунки.
Пахнет горечью молодой коры вишен и набухших почек тополя. Да и сам воздух, кажется, наполнен знакомо-радостными, волнующими запахами, как ожидание чего-то нового и необыкновенного.
Мы идем с Митяем от речки огородами, а потом через наш сад, мимо нашей хаты к нему, к Митяю, домой. Митяй старше меня на два года и повыше ростом на целую голову. На нем, солдатская шапка-ушанка, телогрейка и подшитые валенки.
— Завтра, — обещает мне Митяй, — посмотришь, завтра. Слышь, как шумит?..
Некоторое время мы стоим, прислушиваясь. Никакого шума мне, кажется, не слышно, но вместе с тем и что-то как будто шумит. Может, это ветерок налетел на вершины деревьев?..
— Пошла, пошла водица! — Смуглое лицо Митяя светлеет от радостной улыбки, в черных цыганистых глазах — искорки восторга и удивления.
Потом мы идем дальше.
Для нас с Митяем нет лучшего времени, чем эти мартовские дни, когда в легкие морозные минуты затишья вдруг начинает стрелять лед на речке-безымянке. Это первый признак того, что вода начинает прибывать. Широкая трещина полутораметрового льда приходится как раз вдоль течения по стрежню. Лед горбатится, словно крыша сарая, потому что вмерзшие края у берегов еще крепко держатся земли. Потом, когда вода прибудет еще больше, оторвутся и эти края вместе с комьями супеси и чернозема, с корневищами тальника и болиголова и всплывут, сравняются с серединными кромками. А вода все будет прибывать и прибывать. И уж потом начнется главное: наступит ледоход!.. Тогда наши дома окажутся на огромном острове, так как речка-безымянка сольется с рекой Осорьгой и отрежет нас от остальной части села, что лежит в восточной стороне на возвышенности.
Старая наша лодка давно готова к плаванию. Она законопачена и залита смолой. Ее нос мы с Митяем обили медной жестью, заменили цепь с путовым замком на кольце. Уложены в ней и старое весло, и тополевый черпак. А новый пятиметровый багор лежит вялится на соломенной крыше сарая. «Все у нас готово, весна запаздывает». Так думал я, едва поспевая за Митяем.
— Ты, тово, валенцы обмети как след, — поучает меня Митяй, — вот тебе веник…
Я привык к его нравоучительному тону, тщательно обметаю свои валенки и, чтобы не видел Митяй, улыбаюсь. Мне почему-то весело оттого, что я знаю: стоит нам только зайти в прихожую, как и голос, и лицо, и вся фигура Митяя — все моментально изменится. Знаю я, что Евдокея, мать Митяя, будет недовольно на нас ворчать, а то и прикажет ему лезть на печь, а мне идти домой. Да и как на нас не ворчать, если мы ушли из дому с утра, а сейчас скоро вечер. Мне не хочется, чтобы Евдокея ворчала, тем более отсылала меня домой, и я надеюсь втайне, что она прикажет нам обоим лезть на печь. Вот бы хорошо! Иногда она командовала и так: «Ну-ка, бродяги, марш на печь!..»
— А мы с Санькой у них обедали, — заявляет с порога Митяй, не дав матери опомниться. — Правда, Сань, щи какие кислые, да горячие.
— Угу, — подтверждаю я.
Мне и смешно и боязно, как бы Евдокея не заметила нашего сговора. Смешно оттого, каким одинаково заискивающим, ласковым голосом обращается к матери и ко мне Митяй. Боязно потому, что мать Митяя может меня сейчас же выпроводить за порог.
— Идеж это вы, бродяги, были? — Евдокея произносит это таким тоном, как будто она ничего вовсе про обед и не слышала. Она говорит, а у меня на душе совсем легко, и я пытаюсь снова гасить улыбку на своем лице. Музыкой звучат ее слова «вы, бродяги». Стало быть, все, что будет с ее стороны к Митяю, то в равной мере будет относиться и ко мне. Если б она сказала «ты, бродяга» — тогда б все. Тогда пиши пропало. А тут — «вы, бродяги»…
Евдокея долго смотрит одним глазом на Митяя из-под толстых стекол очков. Другой глаз у нее закрыт, только впадина темнеет черной прошвой омертвелых ресниц, и мне трудно разобрать выражение ее взгляда.
— Марш на печь, — командует она нарочно грубым голосом, — и покуда я не управлюсь по хозяйству — не шамаркать тут у меня.
Мы одновременно сбрасываем валенки и через лежанку вскакиваем на печь, и уже оттуда Митяй просит:
— Мам, дай стекло из очков, что на левом глазу. Тебе оно ведь все равно без надобности. А мне — увеличительное стекло…
— Я те дам, — замахивается Евдокея полотенцем, которым она только что вынимала огромный чугун с коровьим пойлом.
— Мам, ну дай, — канючит Митяй до тех пор, пока Евдокея не выходит из избы.
Печка у Евдокеи большая, просторная. Для меня здесь знаком любой закуток, каждая вещь: и старая стеганка, постеленная прямо на поду, и пучок душистого перца, что висит на гвоздике в запечье, и оцарапанный коробок из-под конфет монпансье на карнизе с куском засохшего и потемневшего от времени мыла. Особенно любил я лежать на спине и рассматривать потолок. На струганых, пожелтелых досках отчетливо виднелись сучки. Один из них напоминал своими очертаниями голову лошади, другой — причудливо изогнутую вытянутую бороду деда Кондрата. А вот прямо посредине надо мной — извивающееся тело ящерицы, с шестью ногами по сторонам и с оскаленной пастью…
— Сань, — шепчет мне на самое ухо Митяй, — хочешь, покажу крючки, что надысь отрезал от старого дедовского перемета?
— Еще бы, — соглашаюсь я, боясь, как бы Митяй не передумал.
Но Митяй и не собирается передумывать. Он достает откуда-то из запечья спичечный коробок и выкладывает на ладонь с десяток поржавелых крючков, один из которых выделяется своей величиной.
Я не сдерживаюсь, беру в руки большой крючок и высказываюсь насчет того, какого огромного сазана или карпа можно поймать на этот самый крючок.
— Ну да, сазана, — пренебрежительно отвечает Митяй, — эти вот как раз сазаньи и есть…
Потом Митяй замечает, что я занял слишком много места на телогрейке. И я отодвигаюсь к самой стенке, освобождая всю телогрейку, вместо того чтобы отодвинуться чуть-чуть. Чувство жалости к себе переполняет мое сердце. Мне до боли обидно за то, что так быстро переменчив Митяй. Только что он заискивал перед матерью, ища во мне союзника, а теперь старается подчеркнуть свое старшинство, превосходство, положение хозяина.
— Хочешь, эти три крючка будут твои? — спрашивает Митяй. — И этот большой бери…
Он, видимо, заметил, что я могу вовсе разобидеться. Но что же все-таки его заставляет жертвовать даже крючками? Может, он боится, что я обижусь, уйду и больше к нему не приду. А лодка-то у нас, и вентеря наши. Что он тогда со своими крючками будет делать? А может, он не хочет, чтобы я уходил, потому, что Евдокеи долго еще не будет и ему просто не хочется оставаться одному?..