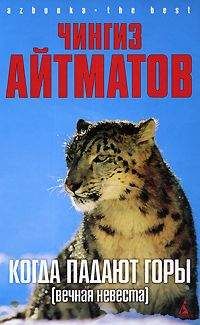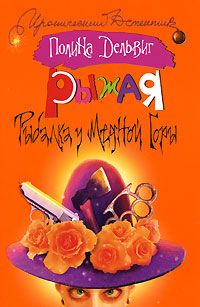Аркадий Первенцев - Гамаюн — птица вещая
Парранский с приятным изумлением убедился, что Ломакин умеет выражать свои мысли более живо, нежели в обыденной «руководящей» обстановке.
Когда-то, в юные годы, прекрасная и трагическая революция во Франции возникала перед мысленным взором Андрея Ильича в образах коммунаров. Позже в практической, зачастую озлобленной жизни эти образы были полузабыты. Вероятно, прав Ломакин, утверждая право России на революционное первородство.
— Мы начали, и нам нельзя останавливаться, нельзя и медлить, — продолжал Ломакин. — Кроме денег существует еще гордость. Гордые люди не спрашивают, сколько им заплатят за мужество. Сто лет надо пробежать за десять лет. В таком пути не бражничают. Мы не имеем права тратить деньги, вырученные за хлеб, на покупку чужеземных приборов и механизмов. Мы сами сумеем их сделать. И внутри страны мы должны научиться беречь не только миллионы, но и копейки. Вот почему рабочий Ломакин якобы выступает против рабочих. Пусть буржуи скулят об их «разнесчастной судьбе». Нынешний рабочий, стоящий у станка индустриальной пятилетки, стоит не меньше рабочего со штыком. Крови-то много пролито. Что же, забыть про нее?
Главная мысль доходила до Парранского даже не через слова Ломакина, он достаточно наслышался их и в самых разных вариациях. Его подкупала убежденность этого не всегда ровного человека. Ломакин не сумел бы покорить критический разум Парранского политическими логарифмами, не будь у него веры. Вера — это сила жизни, это действие, это новое величайшее строительство. Эпоху делают очень простые люди; их раньше и не принимали в расчет, мимо них проходили, как мимо груды бесформенных камней.
— Разберутся ли они? У станков? — вырвалось у Парранского.
Ломакин досадливо махнул рукой.
— Почему вы в них не верите?
— И они не все верят.
— Достаточно того, что мы верим в них, Андрей Ильич, и согласно этому организуем движение масс. Непонятно?
— Почему же? Понятно, — сказал Парранский. — Но смею вас предупредить: организуемые вами массы должны полностью чувствовать себя хозяевами. Только тогда можно утверждать тезис о непобедимости революции и не опасаться тьеров и бонапартов...
Ломакин опять посмотрел в окно, вгляделся прищуренными глазами в мокрого по пояс пожилого человека, неутомимо продолжавшего вымывать капельки ртути, рассеянной по измельченному стеклу. От сгорбленной фигуры человека протянулась длинная тень до самых ворот; струя, бьющая из пожарного гидранта, играла на солнце тысячами искр, словно пламя. Ломакину захотелось, чтобы Парранский взглянул на это зрелище. Он подозвал его к окну, но Андрея Ильича уже не было в кабинете.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Хитрово несколько минут не обращал никакого внимания на вызванную им нормировщицу: писал, подсчитывал; его желтые, пергаментно блестящие фаланги пальцев были похожи на костяшки счетов.
На гладкой, будто полированной, коже, обтянувшей вытянутый асимметричный череп, старость оставила свои следы в виде ржавых пятен.
— Простите, вы уже здесь? — Хитрово деланно улыбнулся, и все его лицо покрылось морщинками, глубокими и мелкими.
Наташа кивнула и тоже ответила улыбкой, хотя старость «Аскольдовой могилы» (так называли Аскольда Васильевича Хитрово) всегда вызывала в ней неприятное чувство; в ней протестовала молодость.
— Не угодно ли ознакомиться с директивой?
Наташа с присущей ей чувствительностью уловила язвительный оттенок в его словах.
Вспомнилось: «Хотели быть хозяевами — стали. Буржуй был плох — обернитесь без него, только ни на кого не пеняйте. Не на кого теперь штык точить, шишки валить, некого в тачку сажать... Раньше хозяину приходилось служить, а теперь я... аккуратно выполняю директивы».
Эти слова были произнесены Хитрово вслух на одном из инструктажей в ответ на чей-то замаскированный упрек по его адресу. Вероятно, впоследствии он пожалел о своей откровенности. Обычно же Аскольд Васильевич избегал запальчивых споров, высказывался осторожно и безукоризненно изучил все тонкости порученного ему деликатного дела.
В начале своей деятельности, вскоре после гражданской войны, когда на производство медицинского и лабораторного оборудования было обращено особое внимание и на бывшую фабрику немецкого концессионера бросили людей и кредиты, Хитрово сразу же завоевал доверие мастеров и рабочих своей щедростью. Ему ничего не стоило убедить руководителей треста в необходимости повышенных расценок, поскольку необходимо было поскорее наладить дело и привлечь лучших мастеровых. Он рекламировал свою доброту и понимание рабочих интересов на всех собраниях, где ему удавалось выступить.
Не имея дурного умысла, Хитрово тем самым расшатал нормы и расценки и невольно разбудил так называемые отсталые инстинкты. Хитрово, пожалуй, нисколько не удивлялся устойчивости психологии рабочего, старавшегося работать поменьше, а получить побольше. Он считал незыблемыми заповеди, касающиеся физического существования человека.
Когда производительность труда из лозунга превратилась в государственную задачу и ее надо было решать немедленно, Аскольд Васильевич взялся за выполнение с усердием хорошо организованного чиновника. Как экономист, он понимал, что при наведении государством порядка необходима твердость, знал, что каждый лишний рубль, выданный в пакете зарплаты, должен обеспечиваться товарами, иначе рубль мог превратиться в полтинник, знал, что без режима экономии нельзя построить фундаментальное здание нового общества. Другими словами, он понимал разумную политику, но в душе считал, что, похоже, пришло несколько запоздавшее возмездие. Пришло время прижимать. Поступила бумага. Смазка осей кончалась.
— Последнюю директиву вышестоящих инстанций я трактую как поворот с резким креном, — дребезжащий голос Хитрово приобрел некую фальшивую торжественность. Так он разговаривал с подчиненными комсомольцами. — Бесхозяйственность отнесена к составу преступления, а не оплошности. Революция не имеет права обходиться вялыми полумерами. Следует не попустительствовать, а призвать к ответственности творца материальных ценностей.
Где-то работали станки, и сила их ощущалась в ритмичном подрагивании стен, в сейсмическом колебании пола; даже стакан, надетый на горло графина, тихонько дребезжал.
Хитрово пояснил свою мысль, постукивая пальцем о край стола, накрытого куском авиационного плексигласа:
— Надо накапливать, а не расхищать. Революция штурмов кончилась, патронташ сдан в цейхгауз. Даже купчина, всеми вами презираемый как мот и кутила, прежде чем куражиться на ярмарках и колотить зеркала, экономил на мочале и мыле, ел сырой лук и ржаную краюху. Я не требую жестокости, но придется расставаться с умилением, с бабьей жалостью, ибо тэ-эн-бэ, — его палец поднялся над черепом, блеснуло кольцо с овальным сердоликом, — ибо тэ-эн-бэ — контрольный пост по охране интересов всего государства в целом, а не какого-то отдельного субъекта.
Наташа по-другому воспринимала и ощущала мир. Рабочих она знала не только по должности, она сама родилась в рабочей семье на подмосковной окраине. Гудок железнодорожных мастерских резко и требовательно наполнял их маленький дом до краев. Он проникал под одеяло в детской кроватке, в непроснувшийся мозг девочки, в умывальник, в плеск воды и словно выметал из бревенчатых домишек черных сумрачных людей. Самая скверная погода не могла изменить раз и навсегда заведенного порядка. Тот же гудок возвращал кормильцев по домам. Перед их приходом грели воду на дровяной плите, стучали корытами, доставали рогожные мочалы. Мылись по пояс, фыркая и отплевываясь, а потом ели белые московские щи и вареное мясо, которое резали почему-то складными ножами. Деньги! С детства это слово не было пустым звуком. О них говорили постоянно, рассчитывали расходы до копейки, и на конфетку далеко не всегда хватало. Деньги приносились в черных, обожженных руках два раза в месяц, всегда почему-то мятые и некрасивые. Бумажки разглаживали ладонями, над ними вышептывали, колдовали; часто между родителями или между дядей и теткой закипали ссоры. Становилось больно за близких, зверевших от этих грошовых забот.
С детства Наташа усвоила, что существует какое-то невидимое и неприятное существо, которое хитрит и издевается, зажиливает при помощи неуловимо тонких комбинаций часть заработка и всегда действует против рабочих. Оно, это существо, враждебно относилось к ним, сталкивало их друг с другом, надувало. Отсюда у людей драки и сквернословие, пьянство и прочее свинство, раздоры в семье и отчаяние.
Потом пришло буйное и веселое время. Застучали приклады винтовок, люди развязывали солдатские мешки, высыпали оттуда пшено и вытаскивали сухую воблу. Запомнилась песня. В ней было много слов, манящих своей непонятной значительностью: «Нам не надо златого кумира, ненавистен нам царский чертог». Судя по митингам, хозяином мастерских стали сами рабочие, и эта перемена поражала воображение так же, как слова «кумир» и «чертог». Даже трудно верилось, что хозяин-рабочий по-прежнему через голову стаскивает потемневшую от мазута рубаху, трет рогожкой под мышками и отхаркивается копотью.