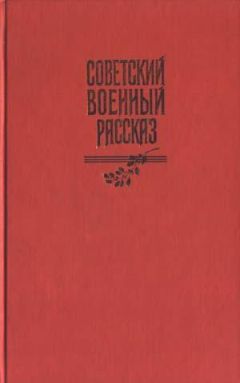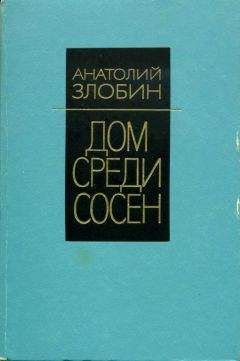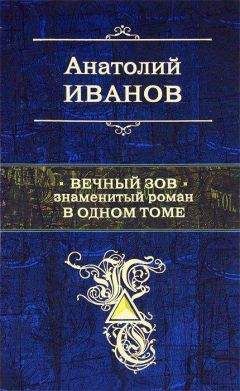Анатолий Иванов - Вечный зов. Том II
— Это Ольке, — сказала она, извинительно глядя на Вахромеева. — Ну, мальчики, выпьем, потом потанцуем. У меня, Семён, патефон есть, вон он, и две пластинки. Потом в кино пойдём.
— Кому, кому… это? — кивнул Семён на чашку, куда Капитолина отлила водки.
— Ольке, говорю, связной нашей. Ну, Вахромейчик, сладенький мой…
— Какой связной? Погодите, — попросил Семён.
Вахромеев хитро подмигнул, выплеснул в широкий рот водку, взял с полки патефон. И, накручивая пружину, сказал:
— А той самой, с которой ты в траншее любезничал. Она в ихнем партизанском отряде разведчицей и связной была…
— Вы… партизанили?! — повернулся Семён почему-то к Зойке, ещё более от этого смутившейся.
— Ну да, — сказала она, опуская глаза. — Вон с Капитолиной мы вместе…
— Господи, ну что это вы, будто младенцы какие? — закричала Капитолина, раскрасневшаяся от глотка водки. — Ты, Зойка, немцев, как траву, косила из автомата, а тут…
— А тут что-то мне страшно, — тихо и беспомощно сказала Зойка.
— А ну-ка, живо плясать!
Зойка несмело взглянула на Семёна. Замученная пластинка хрипела. Семён, тоже волнуясь теперь, шагнул к девушке, положил руку ей на спину и тотчас почувствовал, как она вздрогнула.
Танцуя, он видел красную, заветренную щеку Зойки, чувствовал, как эта щека и открытая упрямая шея пышут жаром. Надо же, что он подумал о них, об этой Зойке и Капитолине, а они… — мучился он, краем глаза, стыдясь, наблюдал за Капитолиной: плотно прижавшись к Вахромееву, она водила его вокруг стола, на котором стояли пустая бутылка, четыре гранёных стакана и чашка.
— А вы её пожалейте, ладно? — услышал вдруг Семён.
— Кого?
— А Ольку. Она хорошая, и ей ничего не надо… Она сейчас придёт, мы ей сказали.
Семён невольно остановился. Он заметил, что Капитолина, всё прижимаясь к Вахромееву, повернула к ним с Зойкой голову, и в ту же секунду Зойка требовательно сжала ему плечо, и он, подчиняясь, стал танцевать дальше.
— Олька всё спрашивала об вас у Вахромеева, — зашептала ему в ухо Зойка. — А он нам рассказал, что она об вас спрашивала. Ну вот, мы с Капитолиной и попросили Вахромеева, чтоб он привёл вас… Это ничего, да?
— Да что же… — проговорил Семён. — Только ведь что же я могу ей… У меня жена и дочь.
— Ой, ну до чего же бывают непонятливые болваны! — прошипела она ему в ухо, и Семён опять остановился. — Ну что вы столбом встали? Танцуйте.
Вот тебе и Зойка! Теперь он верил, что эта девица могла резать немцев из автомата, как траву косой.
Он теперь всё время ждал, когда она придёт, эта Олька с неживыми, потухшими глазами, как-то отрешённо и холодно размышлял: о чём же это он с ней будет говорить? И вообще — как это так «пожалейте»? Как он должен пожалеть её? Что это они придумали? Уйти, что ли, отсюда?
Но Семён понимал, что уходить ему нельзя, и в то же время отведённая ему кем-то роль жалельщика оскорбляла его, он раздражался, и Зойка, эта смущающаяся девица, вроде бы чувствовала, угадывала его состояние, время от времени предостерегающе сдавливала его плечо сильными пальцами.
Олька появилась неожиданно, Семён увидел её, когда она уже стояла спиной к запертой за собой дощатой двери в сарай, обеими руками держась за железную скобку. Голова и лицо её были так же глухо повязаны платком, но теперь белым с синими цветочками по краям. Она стояла, сильно вытянувшись, готовая в любую секунду ринуться вон. Простое ситцевое платьишко туго облегало её фигурку, выделяя крутые плечи и сильные груди.
— Олька, Олечка! — вскричала Капитолина, бросаясь к девушке, обняла её за плечи, прижалась к её закрытой платком щеке губами. — А у нас гости. Вот, знакомься, это Семён, товарищ боевой моего Вахромейчика.
— Здравствуй, — кивнул Семён, не переставая танцевать.
— Добрый вечер, — промолвила Олька. — Да мы знакомы.
— О-о! — громко удивилась Капитолина. — Когда же вы успели?
— А там, на траншеях…
— Ну и распрекрасно, коли так. Ты выпьешь, Олечка? Вон мы тебе глоточек оставили. И корка хлеба есть зажевать.
— А что ж, и выпью.
Она подошла к столу, глотнула из чашки, даже не поморщившись, будто воду. Семён с Зойкой всё топтались у противоположного края стола. Вахромеев, стоя у спинки кровати, чиркал зажигалкой, Капитолина держалась обеими руками за его локоть и что-то говорила. Пластинка, прохрипев, замолчала, Семён и Зойка остановились. В сарайчике возникла какая-то неловкость. Капитолина бросилась было к патефону, но, покрутив ручку, выдернула её, захлопнула крышку и решительно объявила:
— Вот что, хватит, идёмте в кино. По воздуху пройдёмся…
Вечер был душный и тихий, высоко в небе густо стояли звёзды, извечная молчаливая тоска лилась сверху. Семён, шагая рядом с притихшей как-то Олькой (Капитолина, Зойка и Вахромеев, похохатывая, ушли вперёд), вдруг остро ощутил эту тоску. Под этими звёздами, думал он, лежит сожжённый посёлок Лукашёвка и много-много таких Лукашёвок, лежит развороченная и обугленная земля, которой не дали по весне расцвесть и не дадут осенью принять в себя семена. Потому и так печально над ней молчаливое звёздное небо, вобравшее ныне в себя дымы неисчислимых пожарищ, тяжкие стоны изувеченной земли…
Олька неожиданно и молча свернула в сторону, туда где среди пепелищ торчала, белея во мраке, печная труба. Вокруг уцелевшей печки были уложены пять или шесть венцов нового сруба. Неподалёку, на другой стороне улицы, стояло одинокое дерево.
— Вот, дед мой строится, — сказала девушка, став спиной к невысокой стене. — Никого у меня нет, один дедушка остался. Печка вот не разрушенная совсем. Дедушка обрадовался. «Кирпича-то, говорит, негде взять на печку, а нам и не надо…» Покуда вон в палатке живём.
Девушка кивнула куда-то, но Семён никакой палатки не увидел поблизости.
Потом он долго глядел на белеющую во мраке печь, вспомнил вдруг свой дом в Шантаре, такую же печку и подумал, что ведь печки — непременные участники жизни людской, вместе с людьми они делят человеческие радости и невзгоды, и судьбы у печек, как у людей, бывают разные, у каждой своя. И вот эта, уцелевшая при пожаре, но пока мёртвая, давно остывшая, возродится к жизни, задымит, когда дом будет отстроен, возвещая, что жизнь неистребима и неостановима, какие бы несчастья и трагедии на неё ни обрушивались. И вот эта Олька залечит скоро все свои раны, хотя волосы на месте белых проплешин вряд ли отрастут, так и останутся эти проплешины на всю жизнь. Да и рубец на щеке, видимо, останется. Но дурак будет тот парень или мужик, который из-за этих проплешин и обезображенной щеки отвернётся от неё. Может так случиться, и Олька это знает, чувствует и страшится. Но всё равно, размышлял Семён, найдётся рано или поздно человек, который возьмёт её в жёны не из жалости к её судьбе и её мукам, который лишь поразится той цене, которую она заплатила, чтобы сохранить чистоту своего тела и своей души. И тогда она, благодарная, отдаст тому человеку всю себя, без остатка, она родит ему сыновей или дочерей, то есть исполнит то, что ей предназначено жизнью…
Так он думал, не зная, не предполагая всю глубину её трагедии.
— А эти… Капитолина с Зойкой в самом деле партизанили? — спросил он, поворачиваясь к ней.
— Не веришь? — Олька усмехнулась невесело. Но Семён обрадовался, что она хоть так усмехнулась. — Они с Капитолиной поездов пять с немцами, с разными ихними машинами под откос пустили. Не считая всякого другого. Зойка — та особенно отчаянная…
Она помолчала.
— Как же это… такое с тобой, Оля? — проговорил он тихо.
Олька поняла, о чём он спрашивает, встрепенулась вся, вытянула замотанную платком голову, часто задышала.
— Жалеешь меня?
— Да нет… — сказал машинально Семён.
— Ишь ты, гусь! — ещё больше задыхаясь, прохрипела Олька. — Не жалко, значит! Ну да… что я тебе? Пришёл — увидел, ушёл — забыл…
— Что ты к словам-то придираешься? — рассердился и Семён. — По-человечески надо же… И говорить, и понимать.
— По-человечески! А вот ты… поймёшь разве?
— Так ты расскажи…
Неожиданно Олька всхлипнула, уткнулась ему в грудь. Он почувствовал её горячий лоб, растерялся, подрагивающими руками погладил по девичьим плечам, ощутив до пронзительности их беспомощность и доверчивость.
— Ну что ты, Олька? Не надо…
— Не надо… Конечно, не надо, — повторила Олька тихо и покорно, оторвалась от него. — Они добрые, Зойка с Капитолиной. Это они попросили, наверно, Вахромеева позвать тебя… А мне зачем?
— Да я же и не знал, что… что тут живёшь ты.
— Вот и не ходи больше. А Вахромеев пусть ходит. После войны они договорились с Капитолиной пожениться. Капитолина влюбилась без памяти. Сколько было в отряде партизанских мужиков — она хоть бы тебе что, а тут в два или три вечера влюбилась. Вот как бывает непонятно. «Хочу, говорит, чтоб к концу войны от тебя ребёнок уже родился. Ты воюй, а я твоего сына хочу в это время в себе носить». Ты это её желание понимаешь?