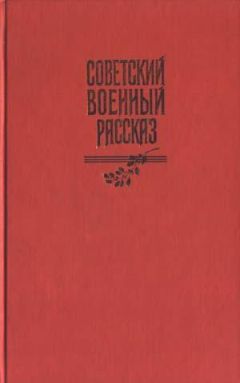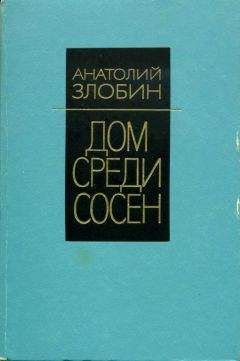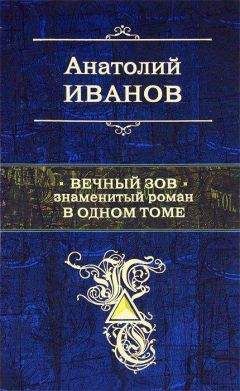Анатолий Иванов - Вечный зов. Том II
Боли в груди Семён теперь не чувствовал, там всё будто омертвело, опустело, зато в голове начался тяжкий и больной гул, как от грохота ударившего в танковую броню снаряда. В глазах было черно, он поднял голову и взглянул на небо, рассчитывая и там увидеть одну черноту, но нет, звёзды не погасли, они по-прежнему сияли в невообразимой высоте бесшумно и равнодушно.
— Дом от того взрыва загорелся и сгорел, — продолжала меж тем Олька очень тихим голосом. — Когда он загорелся, в сени вползла с улицы бабка, застонала: «Господи, ты в крови вся! Убегай, спрятайся, коли можешь, — немцы на пожар бегут…» Не помню, как выползла я из сеней на крыльцо, побежала в темень через огороды. На краю деревни дедушку встретила с хворостом, он только охнул, бросил хворост… Потом побежал куда-то. Я, помню, долго сидела под дождём в кустах, всё ждала его, оторвала от кофточки кусок, прижимала разорванную щеку тряпкой этой… Дед приплёлся не скоро, плюхнулся мешком и ещё долго лежал недвижимо… Потом сказал, что нету больше у меня и бабки, немцы её забрали и не выпустят… И точно, её повесили через два дня. Она сказала им, что это она кинула гранату в немцев, которые дочку её опоганили… мою маму. Они, наверно, не поверили ей. Бабке разве кинуть гранату, она разве знает, как с ней обращаться? А я ещё в школе обучалась… Но всё равно бабушку повесили, нас с дедом искали… Да мы в лесу таились, а после в отряд кое-как пробрались…
Она замолкла, и Семён молчал, не в состоянии произнести что-то и понимая, что любые его слова будут сейчас жалкими и беспомощными. И долго они стояли так в безмолвии.
Наконец Олька вздохнула глубоко и сильно. Семён почувствовал, каким-то чутьём понял, что ей легче оттого, что она рассказала обо всём этом, что ей надо было об этом рассказать кому-то постороннему. Он пошевелился, и она, стоявшая к нему боком, неожиданно вскинула туго обвязанную платком голову, повернулась и, глядя прямо в лицо, проговорила отчётливо:
— Ты сказал, найдётся для меня парень… А вот ты… можешь меня, такую… поцеловать?
Он потерянно молчал, удивляясь её вопросу. Но это даже был не вопрос, а просьба, он это чувствовал по её голосу.
— Ну, что же ты?! — воскликнула она насмешливо. — Немец тот, может, и заразный был. Так ведь только когтями по телу поскрёб. А больше ко мне ни один мужик не притрагивался… Ну? Сейчас темно, болячек моих не видно… Ну?!
Девушку била истерика. Глаза её сверкали, вся она дрожала, и это странным образом подействовало на Семёна.
— Ну что ты… что ты? — произнёс он, шагнул к ней, взял её за плечи и, чуть склонившись, хотел отыскать её губы.
Но она тяжело дыша, повела головой в сторону, вывернулась из его рук, отбежала прочь. Возле одиноко торчащего на другой стороне улицы дерева остановилась, обернулась.
— Жалельщик какой нашёлся! — крикнула она с яростью. — Это всё они, Капитолина с Зойкой… А мне не нужно! Ничего не надо, поня-атно?
«…атно-о!» — эхом взлетел в молчаливое звёздное небо её крик.
Когда эхо умолкло, девушки возле дерева уже не было.
* * * *
Под вечер четвёртого июля Дедюхин был вызван к командиру роты, вернулся оттуда красный, взъерошенный.
— Пос-строиться! — прошипел он, как гусак, своему экипажу, и, когда подчинённые встали у машины, командир танка, пройдясь взад-вперёд вдоль малочисленного строя, остановился напротив Вахромеева.
— Воротничок чистый пришил уже? Та-ак! — угрожающе протянул он.
— Товарищ старший лейтенант, я…
— Молчать! — взвизгнул Дедюхин, багровея от натуги. — А под трибунал не хочешь?! А? — И повернулся к Ивану Савельеву: — А ты куда смотришь? Куда, я спрашиваю? Ежели и племянничка твоего, — Дедюхин ткнул пальцем в Семёна, — под трибунал? Вот если бы сегодня к бабам своим умотали в Лукашёвку?.. Ишь, воротнички чистые пришили…
Дедюхин бушевал бы, может, ещё долго, но заурчал приближающийся грузовик, и командир танка проговорил устало:
— Ладно, я вас ещё мордой об землю пошоркаю. Взять на борт два боекомплекта!
Больше Дедюхин ничего не стал объяснять, но все и без того понимали, что вольное житьё, к которому уже как-то привыкли, кажется, кончается.
Приняв боеприпасы, начали протирать снаряды, потом все, кроме Дедюхина, снова вызванного к ротному, пошли к берегу речки вымыть заляпанные снарядной смазкой руки. Весь день пекло, зной не спадал и к вечеру, хотя солнце уже было в нескольких метрах от горизонта…
В ожидании дальнейших событий все толпились вокруг танка. Вахромеев, встревоженный и обеспокоенный, беспрерывно спрашивал сам у себя:
— Интересно, успеем ли поужинать? Вот в чём вопрос. — И сам же себе отвечал: — Ох, чую — не успеем. Открывайте, братцы, святцы…
— Что ты ноешь-то? — рассердился Иван. — Прямо жилы из всех тянешь и тянешь.
Вахромеев обиженно хмыкнул и скрылся из глаз. Иван подошёл к Семёну, сидящему под берёзкой с разлохмаченной корой, опустился рядом, вынул вчера полученное из дома письмо, стал перечитывать.
— Чего пишут-то? — спросил Семён.
— Да что! Тоже хлещутся там. Панкрат Назаров всё кашляет. Шестьсот центнеров хлеба, пишет Агата, колхозу прибавили сдать сверх плана, а жара посевы выжигает.
— Мать как там?
— Про мать ничего в этом письме… Школьников из Шантары, пишет, на лето по колхозам разослали, в Михайловку тоже вроде прибыли. И ещё ждут. Детям тоже достаётся.
Дядька Иван с самого отъезда на фронт был малоразговорчив, в Челябинске, где их распределили по разным частям, он только сказал Семёну:
— Прощай, выходит. Может, и не увидимся больше… Оно ведь как судьба выйдет.
Благодаря объявившемуся в Челябинске Дедюхину они не только увиделись, но вот год уже почти воюют вместе. Дядя Иван будто носил постоянно в себе что-то невысказанное и больное. Когда было можно, Семён оказывал ему всякие пустяковые услуги, следил, чтобы поудобнее место для ночлега было, чтобы суп в его котелке оказался погуще… Иван всё замечал, глаза его теплели, но вслух никаких благодарственных слов не высказывал.
Перечитав в который раз истёршееся уже письмо, Иван оглядел листок со всех сторон, будто отыскивая, не осталось ли где не замеченное им слово, аккуратно сложил, спрятал в карман. Минуты две-три смотрел куда-то перед собой, на измятую солдатскими сапогами, втоптанную в землю траву.
— Сколько всё ж таки сил человеческих у баб? А мы их, случается, не шибко-то и жалеем…
Семён опустил голову, думая, что дядя Иван имеет в виду его хождения к Ольке в Лукашёвку, но он говорил пока о другом:
— Чего Агатка моя в жизни видела? Слёзы да горе. Холод да голод. А вот в каждом письме меня ещё обогреть пытается…
И, ещё помолчав, задал вопрос, которого Семён боялся;
— Чего там у тебя с Олькой этой?
Семён ответил не сразу.
— Ничего, — проговорил он и поднялся.
— Так ли?
Иван спросил это, глядя снизу вверх, Семён стоял, чуть отвернувшись, но взгляд его чувствовал. Он слышал под подошвой сапога какой-то острый предмет — не то камень, не то сучок, это его раздражало, он двинул ногой, чтоб отбросить тот предмет, но, когда поставил ногу на место, под подошвой было то же самое, — наверное, это просто торчал из земли корень.
— Ты что же… жил с ней?
— Ну, жил, жил! — вскрикнул Семён, поворачиваясь к Ивану.
— Та-ак. С-сопляк! А жена, Наташка? Ну, чего в рот воды набрал? Отвечай!
Ответить Семён ничего не успел — издалека послышался шум заводимых танковых моторов, стал приближаться. Иван вскочил с земли. Появился из-за кучки деревьев Дедюхин, издали махая рукой. Этот знак все поняли, выстроились возле машины. Дедюхин, подбежав, схватил болтающийся у колена планшет, раскрыл его.
— Слушай боевой приказ…
Мимо по размолоченной гусеницами просеке, заполняя её синими клубами сгоревшей солярки, уже с рёвом неслись танки. Дедюхин только крикнул:
— В машину! На дорогу Фатеж — Подолянь. Там я скомандую…
Через несколько минут тяжёлый танк, подминая молодые деревца, выскочил на дорогу. С час или полтора шёл в колонне других машин. В смотровую щель Семён ничего не видел, кроме подпрыгивающего на рытвинах впереди идущего танка да мелькавших по сторонам деревьев.
Потом Дедюхин скомандовал взять влево, шли каким-то лугом уже в одиночестве, продрались сквозь негустой лесок, взлетели на лысый холм. Семён увидел впереди участок дороги, огибающей небольшое заболоченное озерцо. Дорога выворачивала из того самого леска, который они миновали, и пропадала за камышами.
Когда танк спустился с холма, Дедюхин приказал остановиться. Он выскочил из машины, пробежал вдоль отлогого холма, поросшего на склоне всяким мелким кустарником.
— Ну, мужики-сибирячки! Тут наша песня, может, последняя и будет.
У Семёна прошёл меж лопаток холодок. Дедюхина он видел всяким, но таким ещё никогда: щёки серые, губы плотно сжаты, он говорил, кажется, не разжимая их, и не понятно было, как же он выталкивает слова. Глаза блестели остро, пронзительно, во всём его облике было что-то сокрушающее, неудержимое.