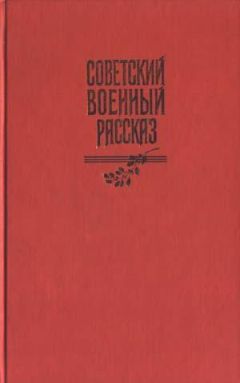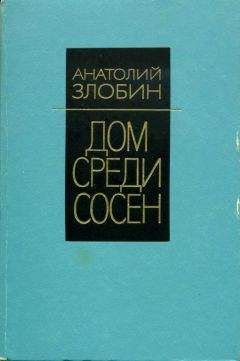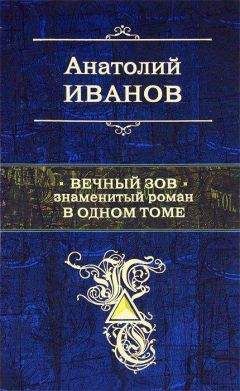Анатолий Иванов - Вечный зов. Том II
А потом — бои за начисто разрушенное селение с непривычным названием Касторное, удар на Щигры и далее на сам Курск, город, о котором Семён много слышал. Когда он учился в школе, слова «Курская магнитная аномалия» почему-то всегда удивляли и поражали его, он представлял, что по улицам этого самого Курска валяются магнитные куски железа и это из них делают те магнитные подковки, которые он вытаскивал иногда из старых радиорепродукторов.
Седьмого февраля 1943 года поздним вечером их КВ, исцарапанный пулями и осколками, влетел на окраину какой-то улочки этого города. Город горел, над ним стояло дрожащее зарево, и в этом зареве извивались чёрные жгуты дымов. Улица была тесной, впереди, метрах в трёхстах, немцы выкатывали из переулка пушку, торопливо разворачивали её.
КВ нёсся прямо на вражескую пушку, и Семён понимал, что подмять её гусеницами он не успеет, вон немецкий артиллерист уже поднял руку…
— Алифанов! — привычно прохрипел в шлемофон командир танка, и командир орудия так же привычно отозвался:
— Вижу.
Опустить руку немец не успел, на том месте, где стояла пушка, мгновенно вспух вихрь огня и дыма, оторванный ствол немецкой пушки легко, как сухая палка, взлетел над ним и, крутясь, упал на крышу приземистого домишка, проломив её.
…Поплескавшись в речке, Семён вылез на травянистый берег, взял пыльную, в мазутных пятнах гимнастёрку с погонами, к которым никак ещё не мог привыкнуть, отстегнул медаль, положил её в карман брюк. Снова вошёл в речку, попросил у Вахромеева обмылок.
— Ещё чего, — буркнул прижимистый Вахромеев, однако мыло подал. — На гимнастёрку изведёшь, потом морду нечем будет обмыть.
— Не жадничай… Чего это нас сюда перекинули вот, скажи лучше.
— А девкам тут плясать не с кем, — буркнул Вахромеев.
— Болтун ты, — проговорил Семён и покосился на дядю Ивана, который, белея за кустами незагорелым телом, прыгал на одной ноге, пытаясь другую протолкнуть в штанину.
— Мы тут, чую я, все попляшем, — сказал сбоку Дедюхин. Вода была чуть выше пояса. Дедюхин по-бабьи плюхался, приседая, поднимаясь и вновь приседая. — Ох, чую, мужички-сибирячки! Наотдыхались, хватит. Два месяца как в отпуске, на курорте ровно, были. Вроде и не война нам…
* * * *
Действительно, почти два месяца танковая дивизия недвижимо стояла на берегу красивой речки Сейм, неподалёку от небольшого городка Льгова, освобождённого в начале марта. По всему фронту в конце апреля наступило неожиданное затишье, не было ни налётов артиллерии, ни самолётного гула в воздухе. Странно было, что в самом начале мая по кустам и рощам, обломанным колёсами танков, пушек и автомашин, искромсанным снарядами и пулями, в зарослях, из которых не выветрился ещё запах гари, бензина и пороха, защёлкали, затрещали соловьи. «Это ж знаменитые курские соловьи!» — сказал тогда Семён удивлённо дяде Ивану, а тот, послушав переливчатый звон, кивнул головой и только проговорил: «Ну, наши, сибирские-то, не хуже».
За эти два месяца танкисты хорошо отдохнули и отъелись, привели в порядок свои машины. В начале июня их стали посылать на рытьё траншей и строительство оборонительных сооружений, которые возводились между Льговом и станцией Лукашёвка, танкисты делали всё это охотно — разминали тело от долгого уже безделья.
Вместе с военными на устройстве оборонительной полосы работало много жителей Льгова и Лукашёвки, в основном женщины, и однажды Семён кидал землю рядом с худой молчаливой девчонкой, голова и лицо которой чуть не до самых бровей были замотаны чёрным платком. Она работала в одиночестве, ни на кого не обращая внимания, ни с кем не разговаривая, не отвечая на шутки, кидала и кидала землю. По лбу её обильно сочился пот, щипал, видно, глаза, она отворачивалась, какой-то тряпкой протирала их и часто гладила ладонями свои щёки под платком, будто они у неё чесались.
— Ты бы сняла платок-то… Жарища такая, — сказал ей Семён.
Она впервые подняла на него глаза, и Семён ужаснулся: глаза её были старушечьи, усталые и тоскливые до немоты, будто сгоревшие и присыпанные пеплом, в них совсем не проникал солнечный свет, не отражался в них.
Семён, ошеломлённый, застыл недвижимо. Девушка усмехнулась как-то странно, тоже неживой усмешкой.
— Ладно, я сниму…
Она поглядела вправо и влево. Траншея, которую они рыли, за её спиной круто заворачивала, рядом никого не было. Девушка грязными пальцами развязала на шее платок, сдёрнула его, и Семён почувствовал, как разливается холодок у него в груди. Вся голова девушки была покрыта частыми белыми, как бумажные клочки, плешинами, меж которых торчали пучки светлых, коротко обрезанных волос, а во всю правую щеку пузырём лежал красный безобразный рубец. В платке девушка казалась симпатичной и даже красивой, а сейчас стояла перед ним страшная и обезображенная.
— Это… что же с тобой? — спросил Семён, в чём-то пересиливая себя.
— А прокажённая я… — И, глянув на застывшего Семёна, ещё раз усмехнулась. — Не бойся, я не заразная. Серной кислотой это я себе голову сожгла.
— Сама?! — удивлённо выдохнул он.
— Сама…
— Зачем?!
Девушка туго замотала опять голову, отвернулась и, кажется, заплакала.
— Сёмка, шабаш, — сказал подошедший Вахромеев, поглядел на девушку, — Строиться кричат.
— Сейчас… Больно ж, должно, это, — сказал Семён, понимая, что говорит не то.
— Под фашиста лечь, что ли, легче?! — зло повернулась девушка, в глазах её впервые блеснуло что-то гневное и живое. — Ступай отсюда! Стройся.
— Что ты орёшь на меня? — рассердился Семён. — Я перед тобой виноват, что ли?
— Не виноват. И ступай!
Семён повернулся и пошёл, спиной чувствуя тяжёлый, ненавидящий взгляд. Обернулся — она действительно глядела на него своими мёртвыми, стылыми глазами.
— Как тебя звать? — неожиданно спросил он.
— Ну, Олькой Королёвой… — Она скривила губы презрительно. — Тебе это очень надо?
Он не видел её потом недели две — то ли она не ходила больше на рытьё траншей, то ли работала где-то на другом конце, — но думал о ней всё время, вспоминал её злые слова: «Под фашиста лечь, что ли, легче?!», вспоминал часто Наташку, и ему казалось, что её судьба чем-то схожа с судьбой этой Ольки.
По вечерам танкисты стали похаживать в посёлок Лукашёвку, полностью почти разрушенный немцами, где в длинном кирпичном сарае, уцелевшем каким-то чудом, крутили уже кино. Сперва повадился туда Вахромеев. Он стал вдруг каждый вечер тщательно бриться, а потом и пришивать свежие воротнички из ослепительно чистого, неизвестно откуда взявшегося у него куска новой простыни. Всё это Дедюхину не очень нравилось, и он едко спросил однажды, покашливая:
— Гм… Это ты, Вахромеев, где воротнички-то берёшь?
— Натокался, товарищ лейтенант, на одну благодетельницу. Может, и вы… Пойдёмте. Кусок простыни ещё найдётся.
— Разговорчики! — повысил голос Дедюхин. — Гляди у меня, не окажись в нужный момент на месте!
Однажды Вахромеев уговорил «сбегать на пару часов в Лукашёвку» и Семёна, таинственно намекая на что-то. Семён раза два бывал в Лукашёвке по службе и до этого, идти ему с Вахромеевым не хотелось, но разбирало любопытство глянуть на его таинственную благодетельницу. Это оказалась особа далеко не молодых лет, рыхлая, со скрипучим голосом, но одетая чисто и аккуратно. Она жила, как и многие, в наспех сколоченном дощатом сарае. На железной койке, недавно покрашенной суриком, лежала пышная постель. Приходу Вахромеева и Семёна она обрадовалась, тотчас юркнула куда-то, появилась с костлявой девицей, которая вошла в сарай, прислонилась неловко, боком, к щелястой стенке и побагровела, будто от натуги.
— Это Зойка, мы вместе тут работали до войны в столовке. Официантки мы… Сейчас столовая наша отстраивается, мы покуда на стройке работаем. Знакомьтесь, что ли. Зойка у нас стыдливая. А меня зовут Капитолина.
Семён буркнул своё имя, пожал жёсткую ладонь Зойки, жалея, что пришёл сюда с Вахромеевым. Думал он в этот момент об Ольке и ещё о том, что вот эти две девицы, наверное, напропалую жили с немцами, потому вон и сытые, в теле. Зойка хоть и костлявая, но зад тоже крепкий и намятый.
— У меня, Вахромейчик, кое-что есть! — воскликнула Капитолина, тряхнула кудряшками, полезла за кровать и вытащила водочную бутылку, заткнутую деревяшкой. — Вот!
Бутылка была неполной, водки в ней было чуть побольше половины, Капитолина всё это разлила на четыре части в гранёные стаканы. Семён давно не видел домашней посуды, и при виде обыкновенных стаканов у него в груди что-то пролилось тёплое, будто он водку эту уже выпил. А «Вахромейкина благодетельница», как он с неприязнью назвал про себя Капитолину, глянула на Зойку, всё такую же смущённую и багровую, отлила из своего и её стаканов в какую-то чашку.