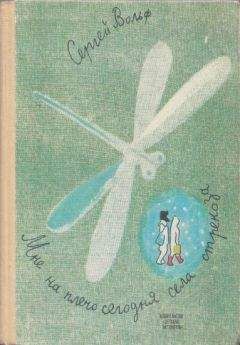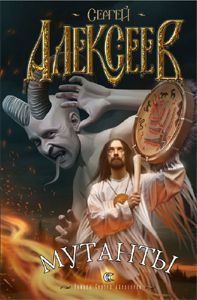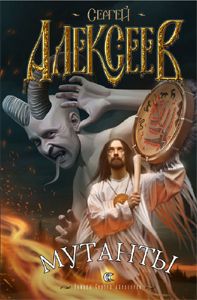Сергей Лисицкий - Этажи села Починки
Грузный по сравнению со Степаном Тимофей оторопел от неожиданности. Стоял с раскрытым ртом и немигающими глазами, не зная как ему поступить, как быть. А Степан, не помня себя от гнева, судорожно торопясь, распрягал лошадь.
— Калинка, никому… Никому…
Пальцы его рук никак не могли нащупать конец супони. Второпях он не мог сразу снять и хомут, позабыв предварительно перевернуть его верхом вниз на шее лошади.
— Ну, погоди, Степка, — пришел в себя Тимофей, — путя наши еще схлестнутся.
— Сволочь! — выругался Степан, бросив в лицо Плужника кнут. Он пощупал холку лошади, кожа Калинки дрогнула, словно прошитая ударом электрического тока Степан осторожно раздвинул шерсть — так и есть: на самом бугорке кровоточила ссадина. Он вывел кобылу из борозды и повел домой, оставив Тимофея с плугом и гнедым мерином среди пахоты.
Так Степан Смирин вышел из колхоза. Вскоре он определился конюхом в соседнем совхозе, где и проработал до самого начала войны.
Недолго проработал в колхозе и Архип Лыков.
Когда около Починок организовался засолочный пункт — он перекинулся туда. Всю осень солил огурцы, помидоры, а после перебрался на Кисляевский сахарный завод.
Где только не работал Архип потом: был и в соседнем районе, и в пригороде, и на пристани — все гонялся за длинным рублем. А ушел на фронт и пропал. Без вести…
Федор очнулся от полудремы. Пролетавшая над самой головой большая серая ворона так сильно каркнула своим хриплым голосом, что он даже приподнялся на локоть, разглядывая: куда бы это она полетела. Птица неуклюже опустилась недалеко за плетнем, где в густых зарослях крапивы и чертополоха находилась мусорная свалка. «Лемех сегодня кроликов забил, отбросы свежие…» — подумал Федор.
Взгляд его упал на траву перед самым топчаном. На острой стрелке пырея сидел жучок-солнышко, красный с черными горошинами. Он несколько раз распускал крылья, но почему-то не мог взлететь. Белые подкрылки папиросной бумагой выбивались из-под красной полускобки жесткого крыла. «Вишь ты», — произнес Федор.
«Надо бы проведать Митрия», — вспомнил Федор. Взглянул на часы. Рабочий день кончился. Федор свернул одеяло и не спеша пошел к дому. Бросив на крыльце свою ношу, он вышел за калитку и направился было в сторону смиринского подворья, но вернулся. «Схожу завтра. Сельмаг уже закрыт…»
4
Фамилия Митрия, Смирин, как нельзя лучше подходила ему, соответствовала его характеру. Был он в меру рассудителен и внешне спокоен, и это создавало впечатление его добролюбия, какой-то смиренности. Сухощавый и по-мальчишески подтянутый, Митрий обладал незаурядной физической силой, но, как всякий сильный человек, был до застенчивости добродушен и миролюбив. По крайней мере, с людьми самыми разными, самых разных характеров он умел уживаться довольно легко.
Но существовал человек, с которым Митрий не только не мог найти общего языка, но и не мог не быть врагом с ним. И этот человек была его собственная теща — Варвара Григорьевна. Это была женщина вулканической силы непрерывного действия и энергии. Полная, круглолицая, с маслеными бегающими глазками, без нее не обходилось ни одно событие ни в ее доме и домах соседей и близких, ни во всех Починках. И всюду она поспевала.
Случись ли где свадьба — она была тут как тут, бегала, хлопотала, распоряжалась; подоспей в каком дворе проводы — без нее не обойтись; окажись у кого какое горе — опять же уладится оно не без Варвары Григорьевны, не без ее вмешательства.
Варвара Григорьевна или Вара, как ее называли в Починках за глаза, была на редкость словоохотливой женщиной. Высокий, переходящий в фальцет голос ее, когда она говорила, напоминал клокотание горного ручья. Впечатление создавалось такое, что слова у нее возникали непосредственно на языке, не касаясь не только груди и сердца, но и головы. Слушать ее, когда она особенно была в ударе — почти невозможно, а спорить — бесполезно.
У Варвары Григорьевны, при ее ограниченном, в общем-то, миропонимании были свои определенные взгляды на жизнь. Они, естественно, не отличались ни оригинальностью, ни здравым смыслом, но зато были тверды и неколебимы. Заключались они в глубоком убеждении Варвары Григорьевны в том, что все, что делают другие, и делают не так, как она, — все это плохо, никуда не годится. А то, что делалось хотя бы приблизительно похоже на ее действия, — все это хорошо. Потому-то так настойчиво и методично она изо дня в день старалась перестроить жизнь своих близких на свой лад и манер.
Три года назад, когда Митрий похоронил мать, — Варвара Григорьевна стала жить большей частью в их доме. И было понятно, так как дети были совсем маленькие. Марина, привыкшая к помощи свекрови по домашним делам и заботам, трудно входила в роль одинокой молодой хозяйки. Словом, требовался в доме опыт старой домохозяйки и зоркий глаз.
Почти год прожила тогда в доме Митрия теща, но этот год стоил ему немалых сил, выдержки и хладнокровия. И все же всего этого даже у него, Митрия, такого покладистого спокойного и миролюбивого человека, — не хватило. Взорвался он однажды так, что все домашние разбежались со двора, правда, теща не особенно-то торопилась и покидала подворье последней, уже под конвоем зятя, с двухаршинным засовом в руках.
Да и было от чего взорваться, если, что бы ни делал Митрий, по теще все выходило — не так. Подрезал ли он во дворе кустарник крыжовника — не так, ладил ли над окнами гардины — не так, даже когда брился — и то не так. Не так, не так, не так…
Если бы у зятя хватило терпения, и если бы он спросил у тещи — как, — то она вряд ли бы ответила, и не только не ответила, не смогла бы даже приблизительно объяснить существо дела, так как в жизни, кроме стряпания у печки, ничего не делала. Всю жизнь прожила за счет золотых рук своего мужа Василия Ивановича.
Часто Варвара Григорьевна под всяким предлогом старалась не садиться за общий стол завтракать или обедать. Зато так, между делом, лучшие, самые лакомые куски были ее. Ела она всегда как-то украдкой, получалось у нее это по-воровски, чего страшно не любил Митрий, не нравилось такое поведение матери и Марине, и она часто ей выговаривала. Но это дело было бесполезным.
Все ей не нравилось, все было не так, как она представляла в своем воображении. Она, например, считала, что Митрий слишком много ел, а на замечание Марины, что он ведь мужчина, — теща не обращала внимания. Ей не нравилось также, что зять курил, что он иногда кашлял и, как ей казалось, слишком громко стучал сапогами. Ей не симпатизировало даже собственное отчество, и она требовала называть себя не Григорьевной, а — Георгиевной.
Митрий не раз задумывался, вспоминая тестя, умершего два года назад, и сопоставляя его с этой женщиной: как они могли уживаться, эти два совершенно разных человека? И что удивительно, жили нельзя сказать чтобы плохо. Та истина, что у таких вздорных ничтожных женщин, как правило, случаются хорошие мужья, была им открыта давно. И на примере своего тестя и тещи Митрий еще раз убеждался, что это именно так. Безусловно, все положительные стороны в таком деликатнейшем вопросе, как их семейная жизнь, Митрий относил за счет более покладистого характера покойного тестя. И он не ошибался. Ибо кто хорошо знал Василия Ивановича Крайнова — не мог утверждать обратное. Столяр-краснодеревщик, большой мастер своего дела, это был человек широкой души и добрейшего сердца. Он был единственный, кто умел потакать всем желаниям и капризам своей Варвары. Единственный он называл ее Георгиевной.
…Первое время Марина сама наведывалась к ней. А после и теща опять стала иногда появляться у Смириных, стараясь, однако, попадать, когда Митрия не было дома. Несколько раз он ее заставал, но делал вид, что не замечает. Так складывались у него с тещей какие-то неопределенные, натянутые отношения, которые продолжались долгое время да, собственно, были они такими и теперь.
Зато Федор стал чаще наведываться к Смириным. Он тоже недолюбливал Варвару Григорьевну. На этот раз во дворе Митрия Федор увидел некую перемену. Сначала он не понял, в чем дело. Как всегда, перед порогом стоял штакетник, за которым красовались крупные георгины, разноцветно горели астры. У летней кухни, что у плетня, как всегда стоял старый велосипед Митрия, без багажника и надкрыльев, у кучи желтого песка — лежал набоку игрушечный самосвал, валялись совочки, ведерки и другая детская посуда из жести и полиэтилена.
— Вот оно что, — вслух произнес Федор, увидев наконец пустое место, где раньше лежали у Митрия кленовые жерди. Он повел глазами вокруг и разглядел в самом конце двора, у небольшого сарая, которые в здешних местах называют ласково катушок, ровный штабель этих самых жердей, сложенных хозяином, видимо, вчера или же сегодня.
— Нынче опять стройка, — пояснила Марина, поздоровавшись с Федором и поймав его взгляд на жердях. — Погреб перекладывать будем.