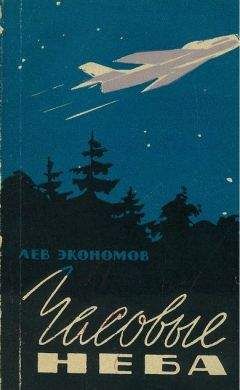Лев Экономов - Готовность номер один
— Играть, наверно, будешь?
— Сыграю.
— Это хорошо. Ты здорово играешь. — Старшина редко когда называет кого-либо из подчиненных на «ты», и поэтому его «ты» мы всегда расцениваем, как особое расположение к себе. Только чем я расположил Тузова — непонятно.
— Иди, сынок, не стану больше задерживать, — продолжает он. — Если бы не дела здесь — тоже пошел бы на концерт.
В последнем я не сомневаюсь. Никто так не любит самодеятельность, как военные, независимо от того, выступают ли они в роли артистов или в роли зрителей. Мне же известно, что старшина любит музыку, любит песни. И сам поет. У него неплохой баритон.
— Автобус будет возле проходной через полчаса, — говорит мне Тузов. — Заскочи по дороге к нашим офицерам-холостякам, что выступают с самодеятельностью. Предупреди об автобусе.
Страница третья
До домов, где живут офицеры, рукой подать. Мне здесь все знакомо, не раз приходилось бывать. И все-таки нерешительность охватывает меня всегда, когда я прихожу к летчикам. Наверно, Горький был прав, когда говорил, что «рожденный ползать — летать не может». Эти люди, говоря языком математика, мне кажутся на целый порядок выше обычных смертных.
Квартира, где живут холостяки, из трех комнат. Две смежных занял замполит полка майор Жеребов с женой и ребенком, а в изолированной поселились старшие лейтенанты Стахов и Мешков. Здесь же временно живет капитан Саникидзе, недавно прибывший из медицинской академии. Дом новый, со всеми дарами цивилизации, от которых я, кажется, стал уже отвыкать.
На кухне Жеребов и его жена купают в тазике своего бутуза и так поглощены этим, что не сразу замечают меня. Короткая гривка темных слипшихся волос спадает на лоб майора. Он смешно вытягивает губы, шипит, трясет головой, щелкает языком, — словом, делает все, чтобы занять карапуза, потому что купание мальчонке не нравится, и он взял уже несколько высоких и довольно внушительных нот.
С минуту я стою у порога, откровенно любуюсь, как супруги купают малыша.
— Вот что ждет вас, когда женитесь. Подумайте, сокол, хорошенько, прежде чем сделать этот роковой шаг, — ослепляет Жеребов своей задорной улыбкой. — Подумайте.
На улице за окном слышится певучий голос:
— Ну що ты там на аэродроми поховал. Уходишь раньше усих, а до хаты вертаешься последним. Зовсим не жалиешь себя.
— Щербина опять выговор схватил от многоуважаемой жены, — говорит Жеребов, качая головой. — Это очень хорошо.
Щербина — техник самолета, на котором я работаю механиком. Я еще не встречал человека, который бы так ревностно относился к делу.
В окно мне видно, как дородная женщина размахивает оголенными по локоть руками, а Щербина конфузливо переминается с ноги на ногу и глядит на загнутые носки своих яловых сапог. Он, пожалуй, полноват для своего небольшого роста, кажется несколько мешковатым. Ходит неторопливо, в раскачку, нередко называет солдат хлопчиками.
Но, несмотря на внешнее спокойствие, Щербина страшно увлекающийся человек. Сегодня на занятиях, заговорив о двигателях космических кораблей, он уже не мог остановиться до конца урока. Рассказывал о космических ракетах на ядерной энергии, об электрических (плазменных и ионных) межпланетных кораблях, о фотонных летательных аппаратах далекого будущего. Я раньше как-то не очень интересовался техникой и был буквально ошеломлен тем, что услышал от него.
Увлекаясь, он преображается, широкое лицо пылает, маленькие, чуть опухшие глаза искрятся.
Я прохожу к летчикам.
В комнате у холостяков над казенными железными койками — ковры в цветную полоску. На составленных тумбочках огромная радиола и груда пластинок без чехлов. В летние вечера, когда окна открыты, ее могучие стереофонические динамики звучат на весь поселок.
Сейчас у летчиков другая страсть. Всякую свободную минуту они хватаются за гири и гантели, что лежат под столом, и накачивают мышцы. Культуризм — это модно. Над койкой моего командира экипажа, старшего лейтенанта Стахова, висит ружье для подводной охоты, резиновая маска и дыхательная трубка. Он до глубокой осени не вылезает из реки. Рыбаки из соседних деревень зовут его водяным, а ребятишки — человеком-амфибией.
Над изголовьем у старшего лейтенанта намертво прибита большими гвоздями цветная гравюра «В мастерской художника». На ней изображена обнаженная натурщица. Ее подарили холостякам на новоселье, до этого они жили в бараке, и повесили над койкой Стахова, воспользовавшись тем, что он был в отпуске.
— Черти, хотите растлить меня, сделать безнравственным? — говорил он товарищам, когда я принес сюда его чемоданы.
Впрочем, он, кажется, ничего не имел против этой картины. Ему не нравилось только, что его койка стояла у самой двери. Всякий раз, когда ее открывали, дверная ручка стукала по спинке кровати. Старший лейтенант Мешков почувствовал себя виноватым, что у товарища неудобное место, охотно поменялся с ним. Правда, удары, предназначавшиеся Мешкову, приняла на себя ба-бышка, которую посоветовал приколотить майор Жеребов. А Мешков же, как я заметил, заботу о собственных удобствах считает пустой тратой времени.
За час до отхода автобуса
Офицеры были уже в сборе и ждали задержавшегося Мешкова, чтобы забить козла. Проигравшие кипятили воду для бритья и наводили порядок в комнате.
Саникидзе, маленький, худенький, с черными, как маслины, и влажными глазами, лежал на кровати животом вниз и, запустив пальцы в курчавые волосы, упивался очередным фантастическим романом. Его интересовали книги, в которых рассказывалось о будущем науки, призванной увеличивать продолжительность жизни, книги, в которых давался анализ различных технических проектов и решений, направленных на создание искусственных органов: сердца, легких, печени, почек, желез внутренней секреции.
— Вы только послушайте, — сказал он Стахову и стал читать о том, как ученые создали искусственное живое существо, снабдив его мозгом человека. Мозг, заключенный в стальную оболочку, управлял этим человекоподобным существом больше тысячи лет. Существо это, пользуясь колоссальным опытом, добилось неограниченной власти и держало некую страну в страхе и повиновении.
Стахов демонстративно зевнул и посмотрел на титульный лист книги, которую читал врач.
— Ну, как? — спросил капитан, подпирая остренький подбородок руками. Ему хотелось поговорить о фантастике. — Понимаешь?
— Чего же тут понимать-то?.. Читал я этот роман. Все высосано из пальца.
Стахов тоже любил фантастику. Особенно про космические полеты. Но он читал не все подряд. Станислав Лем, Роберт Шекли, Рей Бредбери, а с другой стороны — Александр Беляев, Аркадий и Борис Стругацкие, Иван Ефремов были любимыми писателями молодого летчика.
— Почему из пальца, дорогой? — спросил Саникидзе.
— Да ты понимаешь, Айболит, — Стахов в шутку передразнивал доктора, — фантастика, говоря языком наших философов, тоже должна быть правдивой, показывать жизнь с позиций материалистической диалектики. А как ты думал? Без этого мы не увидим возможного облика, будущего. Нет, я за ту фантастику, которая проповедует человечность. Возьми «Туманность Андромеды» или «Магелланово облако». Там действуют реальные люди, и в них веришь.
Стахов иногда любил помечтать. В эти редкие минуты он как-то весь преображался. Колючие светло-серые глаза его становились мягкими, как у ребенка.
— Когда-нибудь холодная старушка Луна станет обжитым уголком, — сказал он, покусывая мундштук потухшей папиросы. — Добраться до нее будет так же легко, как сейчас до любого населенного пункта земли, где есть аэродром. Оттуда полетят корабли к звездам. Эх, встретиться бы сейчас со своими далекими потомками! Посмотреть на их жизнь через тысячу, другую лет, узнать, какие проблемы будут решать, о чем думать. Ведомы ли им будут страдание, зло, ненависть, страх, измена, ревность, месть, отчаяние?
Саникидзе слушал старшего лейтенанта со вниманием, кивал головой.
— И я за то же ратую, — сказал он. — Ведь мозг — это вместилище разума — остается в искусственном организме человеческим. Значит, ничто человеческое этому существу не будет чуждо. При нем останется человечность, весь набор чувств. Только все это неизмеримо разовьется, потому что мозг за многие сотни лет существования в искусственной оболочке вместит в себя, а его емкость даже трудно себе представить, бездну жизненного опыта, впечатлений. В кладовках его памяти будут храниться ответы на тысячи и тысячи вопросов, которые человек из поколения в поколение вынужден решать заново.
Пробовали товарищи приохотить и Мешкова к научной фантастике, но он и одной книги не мог одолеть.
— Хотим мы или не хотим, а фантасты мыслят категориями сегодняшнего дня, — сказал Мешков. Предвидеть неожиданное нельзя. До открытия радиоволн о их существовании никто не мог сказать даже полслова.