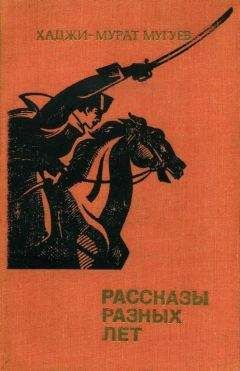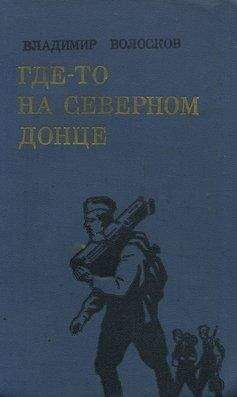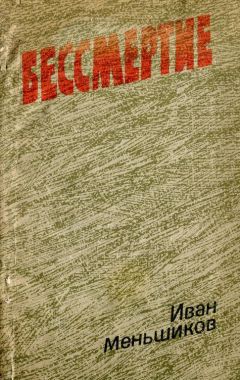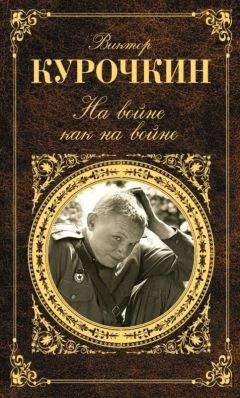Василий Оглоблин - Кукушкины слезы
Костя начинал понимать, что у матери был свой мир, совсем не похожий на мир отца, и она все чаще углублялась в нем, прячась от жалкой, бессмысленной и нечистой жизни в этом доме. Несколько раз Костя был невольным свидетелем их ссор с отцом, которые всегда заканчивались тем, что отец уходил, шумно хлопнув дверью, а мать весь вечер сидела на диванчике, поджав под себя ноги, смотрела в одну точку и тихо плакала. Она была, как понял Костя, слишком слабовольной и беспомощной для того, чтобы изменить что-то в окружающей ее жизни. Костя с недавнего времени начал понимать это. В шумные субботы и воскресные дни она всегда была печальной, в глаза ее было больно смотреть, казалось, она плакала без слез.
— Что молчишь, сынок? — подвывала она. — Как, скажи, жить-то теперь станем?
Костя насупился, шмыгнул носом, убежал, глотая слезы, бухнулся, не раздеваясь, в постель, долго лежал, воткнув взгляд в потолок. Когда все утихло и сторожиха ушла, Костя встал, вышел, разыскал недопитую матерью бутылку водки, осушил до дна и уснул за столом, окунув золотистые кудри в миску с недоеденным молочным киселем.
На следующий день пятым уроком была ботаника. Костя, позевывая, глядел в окно. Голова гудела, в ней, казалось, копошились мухи. А за окном плыла по голубому раздолью весна. Щедрое солнце заливало улицу светом и теплом. Остро и пресно пахло оттаявшей землей, перегретой прелью и наземом. Из молодого школьного сада несло набухавшими почками смородины. Аделаида Львовна лениво и сонно объясняла. Он не слушал.
Видел Костя, как, обходя пенистые лужи, перешел дорогу милиционер, направляясь к школе. «Что он у нас забыл?» — удивленно подумал Костя. Через минуту приоткрылась дверь и ботаничку вызвали. Вернулась расстроенная, уронила виновато-дымчатый взгляд, сказала:
— Милюкин, иди, разрешили проститься с отцом, его отправляют.
Костю словно ветром сдунуло. Но никакого прощания не было. С замирающим сердцем увидел он, как со скрипом открылись высокие тесовые ворота, в глубине просторного двора показались два конных милиционера, откуда-то вышел и стал впереди лошадей сутулый съежившийся человечек с узелком в руке. Кто-то невидимый сказал:
— Давай!
Человечек пошел, неловко ступая в грязь, лошади сзади загарцевали, обрызгивая пешехода желтоватой жижей. Костя присмотрелся и узнал отца. Бурый, постаревший, совсем чужой отец горько улыбнулся ему, взмахнул узелком и уронил голову. Так и ушел, ни разу больше не взглянув на сына и не сказав на прощание слова.
Долго стоял Костя в луже посредине улицы, не замечая, как набухают холодной весенней водой портянки в сапогах, как начинает озноб прошибать тело, кусал нижнюю губу, сплевывая кровь. Видел, как останавливались на тротуарах люди, провожали отца колючими взглядами, шипели зло:
— Отмошенничал, голубчик, отпировал...
В школу Костя больше не вернулся. Как ни упрашивали учителя, мол, образумься, месяц до окончания семилетки остался, доходи, окончи школу, отец отцом, а тебе жить надо... Костя слушать не хотел, только посвистывал да губу закусывал. Исподлобья, обреченно и зло посматривал он на учителей и школьных товарищей: «А пошли вы все от меня...»
Вскоре еще одна острая заноза вонзилась в сердце с болью и мукой. Трезвой после отправки отца Костя мать не видел. Проснется утром, а она уже пьяная, то лежит пластом в постели, в потолок смотрит стеклянными глазами, то пальцем стену колупает. И молчит, словно нет ее в комнате. Потом вдруг разговорится, околесицу всякую начнет молоть, нескладуху нести. Костя слушает, слушает, глотая слезы, жутко станет, убежит, ночи три дома не ночует. Появится, переступит осторожно порог, насупится, молчит. Из просторных хором переселились они в ту пору к сердобольной сторожихе, в ее крохотную каморку.
Как-то утром, убежав по обыкновению из дому ни свет ни заря, шлялся Костя по сельской площади, около магазина, одноклассников, идущих в школу, встречал поодиночке и лупцевал. Ребята-дружки дернули за рукав:
— Гля, Костя, гля!
Костя оглянулся и обомлел: мать шла серединой улицы села голая, пепельные волосы по плечам рассыпаны, руки в движении, будто пряжу наматывают, голова вверх закинута, и на сжатых губах улыбка мертвая застыла. Похолодело все в Косте, будто его ледяной водой облили, кинулся бежать без оглядки. Неделю домой не являлся. То на пристани переночует, свернувшись калачиком под скамейкой, то в поле, то в прошлогоднем одонье или стогу. Питался чем придется: то объедки в мусорном ящике отыщет, то картофеля в поле накопает и в костре напечет. Через неделю объявился. У ворот базы люди толкутся.
— Костя, где ты шляешься? — сказала, утирая слезу, соседка. — Мать-то умерла вон, хоронить будем, страдалицу.
— Пойди, пойди, простись с матушкой-то горемычной.
Прошел в сторожку. В пустой, залитой солнцем каморке плавали, сталкиваясь, пылинки, а внизу, на грубых толстолапых скамьях, стоял некрашеный гроб, в изголовье холодно трепетали язычки свеч, а еще ниже строго покоилось отрешенное и красивое лицо матери. Словно в густом едком тумане прошел этот день. Со смертью матери гнетущее ощущение полного одиночества и безысходности переполнило его озлобленное сердце. Люди советовали в детдом определиться — свистнул в ответ:
— Пошли вы все!...
Подался на соседний торфяник. Сказывали добрые люди, что заработки там хорошие и харч в столовке дешевый. К тому же общежитие есть — пригрет, присмотрен. Поработал сезон, не поглянулось: мозоли на руках вздулись, житуха скучная, лес, бараки, тоска болотная. Перебрался с торфяника опять в село. Мимо станции, где они недавно жили с отцом и матерью (а это в трех километрах от села), проходил с опаской, ругался соленой бранью и густо сплевывал в сторону высокого забора межрайбазы. Перебивался кое-как. На отшибе пустовала изба посла умершей одинокой старухи. Поселился в ней. На восемнадцатом году, и сам никуда не определенный, молодую хозяйку привел в пустую избу. Девушка попалась добрая, работящая. Опять же не повезло: на одиннадцатом месяце жизни сбежала Дуняшка ночью, в одном платьице, с грудным ребеночком на руках. Дура. Гулящий, говорит, и пьющий и не любишь меня... А что, за подол твой мужу держаться? Погуливал с солдатками, выпивал с дружками, а Дуняша, видите ли, любовью какой-то бредила...
Вспомнив про Дуняшу, Костя захохотал:
— Дура, меньше книжек читать надо было, а то втолкала в голову: любовь, любовь. А после чего ею закусывают, знаешь? То-то...
Потер потной ладонью по лбу, словно отмахивался от непрошеных воспоминаний, под глазом пощупал — саднит, выругался сквозь зубы:
— Краля козырная.
И опять к окну потянуло. Плавает цветастое платье в соседском саду, руки голые мраморные мелькают. Закусил губу.
— Дурочку спорол. Круто повернул. Надо было с маслицем, деликатно, обходительно. Да ведь кто его знает, что она за птица, иная нахальных больше предпочитает. Только бы ночью пофартило, а там поглядим.
Глава третья
— Эскимо! Кому эскимо? — сконфуженно выпевала Зина Лощилова, по-сельскому Ромашка, или еще — поповна, втираясь в гущину людского потока, хлынувшего к причалившему пароходику; и пушистые метелки ее длинных ресниц то удивленно взлетали, то обиженно падали. — Пожалуйста. Свежее. Ароматное. Холодное. Пожалуйста.
В этом нараспев произнесенном «пожалуйста» было столько искренней трогательности, а от светлого и виновато-грустного облика Ромашки веяло такой детской беспомощностью и наивностью, в дымчатом взгляде голубых глаз было столько притягательной силы, что пройти мимо, не задержавшись на минуту около ее голубого размалеванного лотка, было просто неловко. И люди подходили, подбегали, любовались ее обворожительной лучистой улыбкой и брали прохладные трубочки с белой ножкой, яркоцветные и заиндевевшие.
На пристани кипел, переливался разноголосый людской водоворот. Лениво позевывала изомлевшая от зноя река. Всполошливо суетились пассажиры. Покрикивали хрипловатыми голосами грузчики, бегом таская по шаткому трапу большие тюки; трусила смешной рысцой, подгоняя ревущих ребятишек, молодая цыганка в длиннополой цветастой юбке; на причале торопливо целовались, всхлипывали, смеялись, махали бестолково руками и косынками.
— Эскимо! Кому эскимо! Свежее. Холодное. Пожалуйста!
Но вот, покрывая разноголосье, сипло и протяжно прохрипел простуженный гудок отходящего парохода, толпа зашевелилась, колыхнулась, хлынула к воде. Зина опустила беспомощно руки, шмыгнула носиком. Гудок опять пробудил в душе виновато-робкую, но цепко живущую в ней надежду на нечаянное счастье.
...Два года назад в такой же теплый, сморенный зноем день сошла она на этой пристани с парохода с молодым мужем Колей. Она была одета в белое платье с широким поясом и большими накладными карманами, белые модные босоножки на высоком каблуке придавали ее и без того стройной фигуре особую изящность, воздушность.