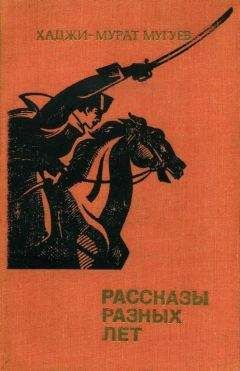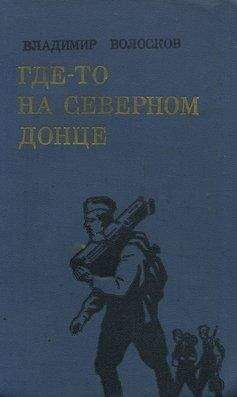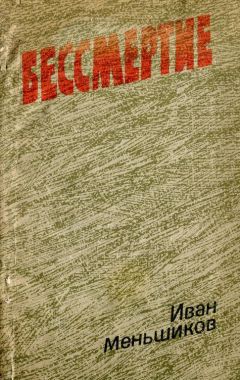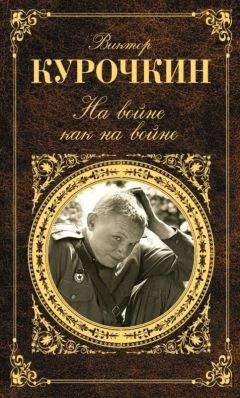Василий Оглоблин - Кукушкины слезы
Каждую субботу в их доме было много гостей. С утра на кухне начиналась беготня, топот, тишина набухала звонкими девичьими голосами, несло жареным и пареным. Две дочери сторожа базы, их мать, худая плоскогрудая женщина, стояли весь день у плиты, делали пельмени, жарили котлеты, мясо, птицу, варили кисели и компоты, звенели посудой. Вечером в большой комнате ярко вспыхивали «молнии», начинали сходиться гости. Возбужденный отец встречал их в прихожей, шумно здоровается, проводил в комнаты. Костя гордился тем, что у отца много преданных друзей. Он любил эти шумные, людные субботы с хлопотами, обилием еды, песнями, музыкой, игрой в лото и карты. Постоянными гостями были высокий и тучный председатель райпотребсоюза, его маленькая бледнолицая жена с испуганными черными глазами, квадратный главбух, у которого лоснящаяся лысина казалась больше головы, с длинноногой под мальчика подстриженной женой. Жена не выпускала из рук папиросу, много и громко смеялась. Когда жена главбуха садилась на кожаный диван, закинув ногу на ногу, Костя не мог оторвать загипнотизированного взгляда от ее длинных глубоко оголенных ног и украдкой из угла стрелял на них глазами, и сердце колотилось учащенно и ноюще. Почти всегда бывал директор школы, в которой учился Костя, приходил он без жены, с ботаничкой, бывали и другие учителя, врачи из местной дорожной больницы и еще какие-то незнакомые Косте люди. Часто в разгар веселья появлялись юркие остроглазые мужчины, наскоро пили, закусывали и убегали, повторяя второпях: «Дела, дела...»
Гости много пили, ели, шумели, спорили о чем-то непонятном, танцевали под хрипловатую патефонную музыку, убегали парочками в темные комнаты. Однажды, утомившись мотаться среди неестественно веселых и возбужденных гостей, Костя, позевывая, побрел в спальню. Приоткрыв, дверь, отпрянул: в полосе света, брызнувшего в щель, он увидел на своей кровати Аделаиду Львовну, учительницу ботаники, и склоненного над ней отца. Отец резко вскочил, вспыхнул, выбежал, плотно прикрыв двери, зашептал: «Погуляй, Костенька, Адочке плохо стало, скоро пройдет...» — И вернулся в спальню.
Костя ухмыльнулся. «Шутники, — подумал весело, — так уж и плохо стало, просто выпили лишнего и все перепутали».
Мама, прямая и бледная, сидела на диване с квадратным главбухом и длинноногой главбухшей и виновато улыбалась, слушая плоские остроты, от которых даже Косте не было смешно. Взопревшая лысина главбуха лоснилась.
Разъезжались и расходились глухой ночью, когда охрипшие от вечернего лая собаки дремали по конурам, клевал носом сморенный сторож в воротах базы и в отпотевшем небе сонно блуждали слинялые звезды. Главбух и председатель райпотребсоюза увозили с собой какие-то увесистые свертки, прощаясь, целовали отца и мать, а Косте как взрослому жали руку. Многие оставались ночевать в их доме, и утром все начиналось сначала: простуженно хрипел патефон, тонким звоном звенела посуда, суетились вспотевшие дочери сторожа, взвизгивала на кухне ботаничка и ласково грозила Косте маленьким румяным пальчиком, отец раскатисто хохотал, бледная и усталая мама расчесывала перед зеркалом длинные волосы и виновато улыбалась всем. Потом садились за стол, и опять было шумно и весело...
С обмирающим сердцем сидел Костя в полутемном, пахнущем мышами и плесенью зале суда, влажными глазами смотрел на восковой усохший профиль отца, вяло и безразлично отвечающего на вопросы судьи и прокурора и часто покашливающего. Казалось Косте, что снится ему дурной нескладный сон, что он вот-вот должен проснуться и тогда все станет на свои места. Но время тянулось лениво и утомительно, а он не просыпался. Дольше и занозистей всех давали показания «лучшие друзья отца» — председатель райпотребсоюза и главбух. Особенно усердствовал главный бухгалтер. Он топил отца безжалостно и немилосердно, зло называя его жуликом, негодяем и проходимцем. Жирная лысина, как и на вечеринках у них, вспотела и лоснилась, тройной подбородок был в постоянном движении, и в нем что-то булькало. Он так расходился, что не мог успокоиться, выкрикивая:
— Я требую у суда самой суровой кары этому вору и выродку в нашей светлой жизни. Чертополох из нашей здоровой почвы надо рвать безжалостно и с корнями.
Упрев от натуги, он сел наконец и долго и зло вытирал мокрым смятым платком парящую лысину. Костя слушал и ушам не верил. Ведь два месяца назад, принимая увесистый сверток, он целовал отца мокрыми шлепающими губами и лепетал что-то унизительное, лакейски-вежливое о своей любви и дружбе. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», — вспоминая Костя слова отца. Он любил их повторять. Вот тебе и друзья.
Все стронулось в Косте тогда, все сместилось, все негодовало. Лица людей в зале суда мутнели, маслянисто расплывались в каком-то белесом тумане. Ему хотелось сорваться и крикнуть на весь зал: «Они тоже жулики, их тоже надо судить, их тоже надо рвать из нашей здоровой почвы безжалостно и с корнями, они помогали отцу воровать, они вместе с ним воровали, только судят почему-то его одного, а они — в стороне».
Но он не сорвался и не крикнул, а только ниже опускал голову и тормошил бледную мать:
— Уйдем, мам, уйдем отсюда...
Долго ворошил Костя в отяжелевшей голове неуклюжие мысли, лежа на крыше сарайчика в тот теплый весенний день, но так ни до чего и не додумался. А над отопревшей землей мягко летал синий апрельский ветер, ласково пригревало солнышко, азартно хлопотали у скворечника недавно прилетевшие скворцы, а внизу, на земле, обгоняя друг друга, плыли в мутных пенистых лужах овечьи катыши. Ничего не видел Костя в тот день кроме этих крупных разбухших катышей.
Жалко было Косте до слез уплывшей жизни, ведь жилось до этого сладко и складно, и никогда не задумывался Костя над тем, откуда все это берется.
Учитель математики спросит на уроке:
— Сколько там, Милюкин, до звонка осталось?
И он гордо говорит:
— Шесть с половиной минут, Павел Дмитриевич.
Пусть все знают, что часы у него не простые, а с секундной стрелкой. Во всей школе часы были у него да у директора, только у того похуже. А выедет на новеньком, брызжущем бликами велосипеде «Пенза» — у ребят слюнки текут от зависти: велосипед-то был у него одного. А сапоги, а костюмы, а пальто, а портфель, а шапка дорогая, а каждый день троячка на конфеты и папиросы! Да разве все пересчитаешь? Не жизнь была, а сплошной праздник. А вес в школе? Напроказничает кто-либо из товарищей, а чаще сам он нашкодит, директор выстроит класс и спросит:
— Милюкин, скажи, кто это сделал? Тебе я верю.
И Костя, сияя от довольства, говорит наугад:
— Огнивцев Лешка.
И Лешка, дружок его, наказан. Пусть знает и не забывается: сила у него, Кости, потому что отец — директор межрайбазы.
Придет, бывало, на базу, отец — рад-радехонек:
— А, Костенька пришел! Ну-ну, угощайся всем, что видишь.
И он угощался. С год назад в винный отдел стал заглядывать, ликеры сладкие и хмельные пробовать. И это отец разрешал: «Ты у меня уже большой, теперь тебе все можно». Сладкая была жизнь, и вдруг лопнула...
Уже и скворцы притихли, угомонились, отдрожала жидким студнем дымчатая темнота над покатыми крышами базы, загустилась, осела, в нее несмело вкрапились и замигали редкие огоньки станции, а он все былинку покусывал. Под куртку полез липкий вечерний холод, ветер нахально свистел в ухо, мысли совсем перепутались. Костя встал и побрел домой.
Едва переступил порог и закрыл за собой дверь, на него зашикала плоскогрудая сторожиха:
— Тише, Костя, еле-еле уложила мать-то, может, уснет, пьяная она, матушка, в доску.
— Где она?
— В спаленке у себя, плакала весь вечер, а потом песни петь почала.
Услыхав шепот, мать вышла. Лицо красное, волосы распущены, голые руки в движении. Села на диванчик, ноги под себя сложила калачиком, уставилась стеклянным взглядом на Костю:
— Костя пришел. Костенька, как жить-то станем? Завтра придут, все описанное заберут, подчистят под метелочку, и останемся мы с тобой в чем мать родила. Допировали.
— До-пи-ро-вввввали, голубчики. Ему-то, сукиному сыну, поделом, тебя, дурачка малого, жалко, пропадешь ведь. Про-па-дешь, сынок, ни за грош, ни за копейку. Ты, Настюша, налей мне еще, выпью я, горит во мне все.
— Полно, голубушка, нешто это поможет? Остепенись, сынка вот пожалей.
— Влей, влей, Настюша, а не то сама... все равно мне. Говорила отцу: легко-то добытое все прахом пойдет — не слушал... Копти теперь до смерти по тюрьмам.
И опять начала плакать и подвывать.
Костина мать была высокой, красивой молодой женщиной с роскошными темно-каштановыми волосами, заплетенными в косы и уложенными трехэтажной короной на некрупной голове. Сколько помнит Костя, она всегда была такой тихой, малоразговорчивой, с усталым и каким-то испуганным взглядом темно-карих с влажным отблеском глаз. Ходила она тихо, осторожно ступая легкими ногами, обутыми в желтые мягкие чувяки, на тканные из разноцветных лоскутов половики, которыми были застланы полы в комнатах их дома.