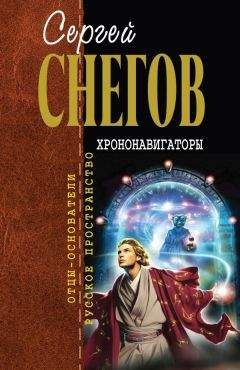Музафер Дзасохов - Белая малина: Повести
Но неужто Бешагур так плох? Так болезни своей поддался, что нет для него уже солнца в небе? Беднягой, несчастным себя назвал! А не скоро дождешься, пока бедняк разбогатеет. И неудачливому редко счастье выпадает.
Все приуныли, опустили головы. У некоторых ребят даже слезы навернулись. Боятся друг другу в глаза поглядеть.
Я креплюсь изо всех сил. Заставляю себя вспомнить дни, когда Бешагура не так-то легко было обидеть. Припомнил забавный случай и невольно улыбнулся. Как хорошо, что я сдержал слезы, перед стоявшими людьми не показал свою слабость.
Каждый советовал Бешагуру какое-нибудь лекарство. Одни говорили, что ничего нет лучше свиного сала, другие, что самое верное средство — это мед с топленым маслом, третьи еще что-нибудь предлагали. А Гажмат назвал барсучий жир.
Мать Бешагура и попросила Дзыцца:
— Может, Алмахшиту в горах удастся раздобыть хоть немного? Все-таки там охотники…
Дядя Алмахшит и сам хороший охотник. Если на медведя ходил — еще бы не охотник! А прошлым летом горного тура подстрелил. Я тогда впервые был в горах. Мы ехали в полуторке, которую вел друг Алмахшита. В кабине я не захотел и забрался в кузов. Хорошо было глядеть по сторонам: горы в облаках и синие ущелья в облаках… От восторга я даже несколько раз пристукнул кулаком по кабине. Шофер остановил машину и выглянул, открыв дверцу:
— Чего тебе?
— Ничего.
— А зачем стучал?
Откуда мне было знать, что шофер остановится? Мне и потом очень хотелось постучать, но сдержался. Чем выше поднимались, тем тревожней становилось на душе. Ехали по самому краю ущелья, и было так страшно, что я зажмурился однажды: как не свалились в пропасть! И почему-то все время казалось, что обязательно врежемся в скалу и перевернемся — машина едва не задевала бортом нависшие каменные глыбы. Два месяца я прожил в горах, привык к ущельям и скалам и перестал их бояться.
Там, в горах, я и узнал, какой охотник Алмахшит.
Несколько дней он где-то пропадал. Пошли его искать. Вдруг Дзаххотт, сын дяди Алмахшита, закричал, показывая на склон горы: «Глянь-ка!»
Я не поверил своим глазам. От сосны к сосне протянута проволока, и на ней рогами вниз висела освежеванная турья туша. Распластав крылья, огромный горный орел, вырывал из нее клочья мяса… Он время от времени пытался взлететь, вцепившись в тушу когтями, но проволока не пускала. Было страшно смотреть, с какой силой орел сотрясал жиденькие сосны; с них осыпались сухие ветки. Мы опомнились, стали бросать камни в орла. Тут и Алмахшит появился с косою на плече.
Вечером он разделал тушу, и каждому досталось по большому куску. Я до сих пор помню орла, он так и стоит у меня перед глазами. Если бы не проволока, неужели бы унес тура?
У Дзыцца есть и медвежий и барсучий жир — дядя Алмахшит принес. Дзыцца лечится «от поясницы» медвежьим жиром, помогает. Я сам растираю ей поясницу. Наберу на ладонь и тру изо всех сил…
Дзыцца отнесла матери Бешагура баночку барсучьего жира.
XVIII
За школьным двором начинался опытный участок, здесь старшеклассники выращивали разные овощи. Саша и я посадили сахарную свеклу. Почти каждый день мы копались на своей делянке, поливали, пропалывали. Таких ухоженных грядок ни у кого не было. Когда подошло время, окучивали грядки. У нас свекольная ботва — свежая, кустистая, а у других вся побурела и поникла. Оттого, что лишний раз прополоть, окучить ленились или поливали не по правилам. Надо с вечера полить, а не днем, когда самая жара.
Копали свеклу все в один день. У кого какой урожай, сразу видно: складывали посреди участка. У нас с Сашей и бурт выше, чем у других, и корневища крупнее. Из соседних домов приходили смотреть. Директор школы объявил, что в соревновании мы заняли первое место. «Молодцы!»
— сказал он. Саша стеснительно улыбался. Каким-то незащищенным, беспомощным ребенком показался он мне в этот миг. Отними у нас первое место, он бы и не возразил.
Может быть, только блеск в его глазах поубавился бы. Да разве найдется такой, кто решится обидеть обладателя этих добрых, смеющихся глаз?! Они так и светятся, так и сияют счастьем.
Было воскресенье, и я позвал Сашу в гости. Мы спустились к реке, выкупались. Все-таки устали, копая свеклу, а поплавали — всю усталость сняло.
Саша очень понравился Дзыцца. Сказала, что похож на ее старшего. Даже прослезилась.
— Поговорить бы с твоим другом, — сказала она, — да вот беда: он по-нашему не понимает, а я — по-русски.
И с виноватым видом смотрела на Сашу.
Мне вспомнилось, как Бимболат рассказывал об одном нашем односельчанине, вернувшемся из России. Спрашивают его о том, о сем, а он как глухонемой: ничего не понимает и сказать не может. Забыл по-осетински!
— А как же он с матерью разговаривает? — удивился я.
— Она же по-русски ни слова не знает!
— То-то и дело, что никак! Одна надежда, что и его граблями по лбу ударит.
Был такой случай. Тоже человек побывал в России, думал навсегда остаться, а вернулся. И тоже позабыл родной язык, на котором разговаривал двадцать шесть лет.
Работал он как-то в своем саду и наступил на валявшиеся грабли. Те со всего размаху и треснули его по лбу. И должно быть, так сильно треснули, что закричал на чистейшем осетинском: «Чтоб руки у того отсохли, кто их тут бросил!»
Люди услышали крик и поблагодарили грабли, которые заставили недотепу вспомнить родной язык.
Я рассказал Саше о незадачливом путешественнике. Он долго смеялся.
Вечерело. Солнце опускалось в заречные холмы. Гнали скот с пастбища, над улицей висела розовая пыль. Я довел Сашу до самого Уршдона: вдруг кто-нибудь пристанет. Хотя вряд ли. Многие уже знают, что мы дружим. Прежде я всегда завидовал тем, у кого были в Джермецыкке друзья. Теперь есть и у меня, мы понимаем друг друга с полуслова. Мы уже второй год вместе учимся, и не было случая, чтобы кто-нибудь из нас обиделся на другого.
Дзыцца я застал за прялкой, Бади и Дунетхан готовили уроки. Бади хорошо учится. Когда сидит за уроками, к ней лучше не подходить. Даже если хочешь помочь. До ночи просидит, а решит задачку. Сама должна до всего дойти!
А лучшая из нас Дунетхан. У нее сплошные пятерки и четверки. Любимого нет предмета, она по всем одинаково идет — что пение, что арифметика. А уж дневник свой бережет! Обернула в газету и никому притронуться не дает. Прибежит из школы и сразу к Дзыцца — показывает, какие у нее отличные оценки.
Дзыцца привыкла, что всегда «четыре» и «пять». А когда случается «три» (Дунетхан однажды получила тройку по физкультуре), то Дзыцца по начертанию узнает и смеется над собой: я, говорит, как та хозяйка, которая в кадке головки сыра считала.
Жила-была одна хозяйка, считать не умела, а за головками сыра в кадушке надо было следить. Вот она и разложила их попарно. Стоит кому-нибудь из домашних взять головку, как она уже знает о пропаже. В конце концов пронюхали о ее хитрости и стали брать по две головки…
А недавно с Дунетхан стряслось несчастье: случайно уронила дневник в колодец. На нашей улице он ни к чему, мы воду берем из родника, а людям с соседней надоело таскать издалека. Вырыли колодец и такой глубокий, что сколько ни смотри, дна не увидишь. В него и уронила Дунетхан свой дневник. Кое-как достали, но чернила расплылись — только выбросить.
Дзыцца купила новый, несколько дней Дунетхан переписывала оценки из классного журнала и против каждой попросила учителей расписаться.
…Бади и Дунетхан готовят уроки, а Дзыцца за прялкой тихонько напевает:
Бог четырех сыновей мне дал
И дочку мне дал одну.
В день каждый четыре чурека съедал
И сыр, размером с луну.
Я очень удивился, когда впервые услышал эту песенку: разве можно зараз столько съесть? Наверно, это шуточная песенка. Но Дзыцца сказала, что чурек чуреку рознь. Как и головки сыра. У Гуашша, к примеру, и четыре чурека с одним добрым не сравнишь. О сыре же говорить нечего. Да как бы там ни было, а неплохо съедать по четыре чурека! В голодные годы на каждого из нас не то что по четыре в день, а по одному в неделю не приходилось.
Я послушал, как Дзыцца поет, и спросил:
— А у нашего председателя колхоза есть жена?
Дзыцца подняла голову.
— Зачем это тебе? — спросила она недоуменно.
— Так просто.
— Есть, конечно. Почему бы ей не быть?
— Тогда почему в поле ее никогда не видно?
Дзыцца склонилась над прялкой.
— Не видно, говоришь? Не знаю, почему. Это, солнышко, жена начальства… Боится, наверное, что ручки у нее огрубеют.
— А еще чья жена не работает?
— Лучше спроси, жена какого начальника работает. Я ни одной не видела в поле.
— Где же у них совесть? — возмутился я. — У председателя и у бригадиров?
— Я тебе никогда не рассказывала, как говаривал один поп?