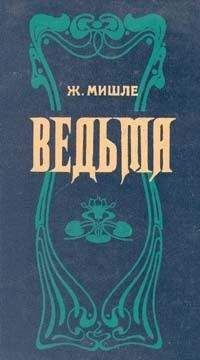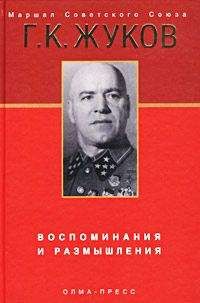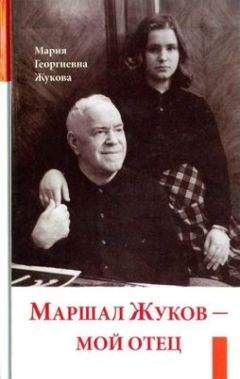Анатолий Жуков - Необходимо для счастья
В общем, сцена удалась хорошо, «кулаки» победили, а смелые они оказались потому, что в село вошли интервенты во главе с Митькой — американцем.
В клубе сразу успокоились, когда увидели Митьку. Он был свойский, хотя и незнакомый сейчас, с холодком. И мундир на нем не нашенский, и фуражка, и язык заплетается, как у пьяного: хау ду ю ду, иес.
Митька похлопывал по плечам братьев Торгашовых и рассказывал им о богатой стране Америке, где скотину не режут, а загоняют в такую машину — Митька показал руками, какая она большая, — и вот с другого конца этой машины выходят колбаса, сосиски, сардельки, яловые сапоги, гребешки, студень, а также валенки разных цветов: красные, белые, черные — смотря по тому, какой масти была скотина.
— Неужто так? — разевали рты братья Торгашовы.
— Иес, — непонятно говорил Митька. — Все в дело идет: кожа — на сапоги, шерсть — на валенки, рога, копыта и кости — на гребешки, из хрящей студень делаем.
— Вот это да-а! — ахали братья Торгашовы. — И любую скотину загонять можно?
— Иес, — говорил Митька. — Если изрежем не ту, суем в машину гребешки, сосиски, валенки и все прочее, включаем обратный ход, и на другом конце выскакивает свинья или корова.
— Живая?! — Братья изумленно выкатывали глаза.
— Иес, — говорил Митька.
И в зале улыбались, переговаривались, хвалили своего любимца. Опять он был на своем месте, роль делового человека пришлась ему впору. Вскоре он поучал уже не Торгашовых, а весь зал — в пьесе крестьян опять собрали на сходку, — он учил деловому отношению к жизни, учил практичности, которой не хватает русскому человеку, учил жить. И выходило это убедительно, несмотря на протесты Нины Николаевны, то есть активистки Матрены.
Теперь она стояла у порога и кричала, что владыкой мира будет труд, но оглядывались на нее уже немногие, это был повторный прием, колхозники не боялись, что учительница станет опрокидывать скамейки, к тому же общим вниманием завладел Митька. Он снисходительно улыбался на ее лозунги и говорил, что главное, дорогая миссис (опять мудреное слово ввернул!), не революция и не труд, а умение получать выгоду из труда. Лошадь тоже трудится, а где ее выгода? У хозяина.
— Знает! — восхищались в зале. — Он свою выгоду не упустит.
— Надо жить так, чтобы всем было хорошо, — поучал Митька.
И это было правильно. Прихватит по пути баб на базар — и они довольны, и Митьке выгода — по пятьдесят копеек с головы. Станет резать скотину — и опять все благодарят, и плата особо.
— Вот мистеры кулаки не воюют, а работают, поэтому жены у них одеты и сыты. Где ваши супруги? — спросил Митька стоящих рядом Торгашовых. — Не эти ли милашки? — И пальцем в первый ряд, на сестер Ветошкиных.
— Эти! Эти! — гаркнули братья.
— Вот видите — королевы! А ваш муж плохой романтик, бросил вас, бедную, в одних калошах и без хлеба.
— Он революцию защищает! — крикнула активистка Матрена.
— Для чего ему революция — для калош? Их проще заработать.
Настала очередь Федора. Сознательный красноармеец, он пришел в разведку и все время наблюдал за врагами из-за занавески (зритель видел его голову в буденновском шлеме), что-то писал на листочке, а потом вышел через боковую дверь со сцены — не иначе как отправить донесение своим. Вскоре он опять пришел и уже не прятался в закуток, а стоял с решительным видом у двери и сердито глядел на Митьку. Его горячее сердце не могло терпеть захватчиков на родной земле, и пусть он погибнет сейчас от руки интервента, он не даст в обиду свою верную подругу и не позволит позорить Советскую власть!
— Я скажу, — выступил Федор вперед, показывая из-под шинели мешочные обмотки, — я объясню, зачем я делаю революцию, бандит заморский!
— О-о! — изумился Митька, трогая деревянный пистолет на боку. — Рад видеть большевика живым. — И кивнул братьям Торгашовым, которые тотчас взяли Федора под руки. — Ну-ну, скажи.
— Чего он скажет? — засмеялись в зале.
Федор смутился, забыл слова, не слышал горячего шепота Громобоева: «…против капитала… за мировую революцию,-за всех угнетенных и обездоленных…»
— Я скажу, — тяжко дышал Федор. — Я все тебе скажу, гад. Ты зачем сюда пришел, а? Выгоду ищешь? А моя выгода не в калошах, не в гнутых спинках и шифоньерах. Я за такую жизнь стою, чтобы человеком быть, понятно?
— Иес, — улыбнулся Митька. — И как же это выйдет?
— Не так, как ты хочешь. Люди будут честные все, добрые, они свою землю не бросят, ухаживать за ней станут, любить. — Он вырвался из рук Торгашовых, оттолкнул их. — Они не станут ездить с плугом через посадку, у нас же степь, каждое дерево на счету, а тут на тракторах ездят. Опять же и фураж у лошадей воровать, а потом хлестать их кнутом нельзя. Совесть надо знать, бесстыжие морды!..
— Федя, Федька, не по тексту! — шипел Громобоев из-за занавески. — «Мы боремся за светлое будущее всех людей…»
— Правильно, — услышал Федор, — за будущее. Американцы тоже не одним брюхом живут, они тоже на нас глядят, весь мир глядит и всякую нашу удачу, ошибку учитывает. Будем мы хорошими, добрыми, все пойдут за нами, а разве тут будешь, когда на казенных машинах калымят! С улыбочкой ведь калымят, весело…
— Иес, — не дрогнул Митька. — А почему? Потому что всем от этого польза и никакого вреда. Или ты хочешь, чтобы люди пешком в район ходили, раз автобуса нет? Я права могу потерять, — это же самосвал! — а я сажаю и везу, я для своих людей все сделаю.
— Занавес дайте, занавес! — Нина Николаевна пробивалась от порога на сцену.
— И к тебе я иду в любое время, — наступал Митька. — Я доброту делами делаю, руками вот этими, понял? Или мне тоже вздыхать, если вы такие честные? Я хозяин, мне дело подавай.
«Вот сволочь! — растерялся Федор. — Как с Прошкой: почешет дорогими словами, а потом в то место, где приятность, — ножом. И вроде все правильно, ничего не скажешь…»
— Или тебе теленка своего жалко? — добивал Митька. — А мне не жалко. Из теленка только бык вырастет, вот такой бык, как ты!
Под общий смех братья Торгашовы потащили занавес, грохнули деревянные ладони колхозников, и только из закутка вырвался хриплый от волнения крик Громобоева:
— Не сдавайся, Федька!
Его поддержали ребятишки.
1968 г.
СЧАСТЛИВО ДОЕХАТЬ
И поезд шел вроде быстро, и окна были открыты, а духота в вагонах стояла одуряющая. Пассажиры устали от нее и уже ни о чем не говорили, не играли в подкидного и в домино, не ели, не выбегали на каждой станции за пивом и лимонадом, чтобы не потеть лишний раз, не читали, не спали, а сидели осовелые у окон, глядели на бурую от вызревающих хлебов степь и ждали — кто своей станции, кто наступления ночи, когда железные бока и крыши вагонов остынут от солнца и можно будет если не спать, так хоть дышать свободно.
И в купе, где утром поселился Краснов со своей молодой женой, было так же тягостно-скучно. Жена дремала, положив голову ему на плечо, или делала вид, что дремала, а Краснов глядел в окно и думал, что она почти ничем не отличается от первой жены, которая не положила бы голову ему на плечо, ей не внове близость с ним, тем более такая телячья близость, потому что дремать удобнее на полке, ощущая телом чистую простыню, а не на жестком плече, вытянув шею и удерживая голову, под которой взмокла рубашка.
Попутчики, старушка и стриженный наголо парень, тоже угнетенно молчали, и почему-то было жалко, что они молчат и ничего не говорят, хотя если бы они и говорили, то вряд ли получилось бы что-то оживляющее. Краснов знал, что парня зовут Василием и он по пьянке совершил какое-то хулиганство, за которое его сажали, а теперь выпустили, а имени старушки не спросил. Да и парня он не спрашивал, Василий сам назвал ему свое имя при знакомстве, а хулиганил он или нет, мог бы и не говорить, кому какое дело, почему он пострижен нолевкой, может, ему так нравится стричься нолевкой, чтобы голова легкая была, вот он и постригся. Многие так стригутся, и ничего особого с ними не происходит, живут как все, в том числе и не стриженые и совсем лысые. Краснов не стал любопытствовать и назвал Василию свое имя и еще назвал отчество, поскольку ему было сорок лет, а не двадцать семь, как Василию, и не двадцать три, как жене, которая и здесь не удержалась от своей насмешливой болтливости и сказала, что его лучше называть товарищем Красновым, потому что он начальник и в его подчинении находится много людей хороших и разных.
Она любила подтрунивать вот так над ним, когда еще была не женой и никем еще не была для него, а просто средненький работник отдела, и подтрунивала не особо остроумно, и вот так обратила на себя его внимание, а потом удержала это внимание, а потом закрепила на него право де-юре, поскольку внимание стало де-факто.
Пожалуй, она любила его, и любовь эта была активной, действенной, потому что Краснов чувствовал, как жена старается разбудить в нем духовную энергию, которую она угадывала, старается всеми силами и средствами, какие у нес есть, и даже эту ее насмешливость надо принимать как задиристый вызов, на который он не отвечал либо отвечал снисходительно.