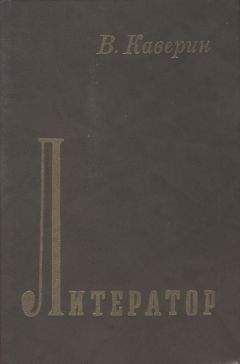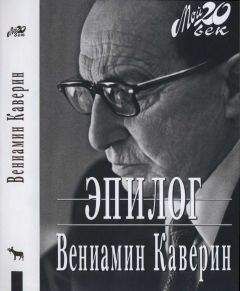Вениамин Каверин - Избранное
Ключ был верен. Единственное, неоспоримое доказательство, о котором Бауэр говорил на докладе, было найдено. Этот листок, с портретом Вольтера, с набегающими друг на друга словами, с быстрыми вычерками, был черновик десятой, сожженной главы «Евгения Онегина».
Знал ли Бауэр о том, что этот листок был в его архиве? Да и был ли? Все подозрения снова ему представились. Но сейчас не до того было! Новые строфы Пушкина, еще никому в целом свете не известные, еще не прочтенные ничьими глазами, были перед ним, и он ни о чем другом и не мог и не хотел думать.
Имена — вот что было труднее всего! Но одно из них он вдруг разгадал — все сошлось, и размер и рифма.
Читал свои ноэли Пушкин,
Меланхолический…
И дальше шла закорюка. Но он продолжал читать:
Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Декабристы. Старик был прав. Какова голова!
Трубачевский бросил лупу. Книга была готова. «Пушкин и декабристы». Двадцать пять печатных листов, нечего было краснеть — он сказал Неворожину правду.
Он вздохнул открытым ртом, ему стало холодно от восторга. Он приложит автографы, пусть все видят, что он сделал. Он докажет, что Пушкин был вдесятеро ближе к декабристам, чем это принято думать. В предисловии он расскажет историю своего открытия. Все — начиная с шифрованной рукописи и кончая этим листком, который он нашел…
Он вдруг задумался. Листок был найден в кармане чужого пальто. Но Неворожин служит в «Международной книге». Может быть, он купил этот листок для антиквариата? Или для себя? Может быть, он сам собирает старинные рукописи?
«Как мог я решиться на это? — с изумлением спросил себя Трубачевский. — Я просто украл его. И Неворожин догадается — нельзя не догадаться. Он явится ко мне, — Трубачевский с ужасом взглянул на часы, — и прямо в глаза скажет, что я — вор! Что я ему отвечу?»
Он схватился за голову и встал. Вот что: нужно бежать к старику. Нужно все рассказать. Нужно узнать, какие бумаги пропали из пушкинского бюро в тот день, когда он явился к Бауэру со своим открытием. Нужно просто увидеть его — и тогда все станет ясно.
Он оделся, вышел в столовую. Отец взглянул на него и выронил газету.
— Папа, у меня такой вид, потому что я не спал, — сказал он поспешно, — пожалуйста, папа, если ко мне придут, ты скажешь, что я поздно вернусь и чтобы не ждали.
Он выпил стакан холодного чаю и с отвращением съел бутерброд.
Шел дождь, не очень сильный, но прохожие толпились в подъездах, извозчики, которых в ту пору было еще много, подняли верхи и покрылись поверх армяков мешками. Трубачевский не стал пережидать. Весь мокрый, в мокром макинтоше, в надвинутой на уши кепке, он добрался, прыгая через лужи, до улицы Красных зорь и до знакомого дома.
Он позвонил, постучал, все не открывали. Потом Машенька открыла, и едва войдя, едва взглянув ка нее, он понял, что случилось несчастье.
— Машенька…
— Ш-ш, у нас Федоров, — сказала она шепотом, и Трубачевский сейчас же догадался, что это врач и что Бауэру плохо.
— Сергей Иванович? — тоже шепотом спросил он.
— Ему выкачивание делают, и сейчас сестра вышла и сказала, что показалась кровь.
У нее губы задрожали, и Трубачевский испугался, что сейчас она заплачет.
Но Машенька удержалась.
— Наверно, рак.
— Да бросьте вы! Моему отцу тоже делали, и тоже кровь, а потом посмотрели — и ничего, — шепотом соврал Трубачевский.
Она посмотрела на него и, прикусив губу, покачала головой.
— Нет, рак. Я давно думаю, что похоже.
— Ничего не похоже. Разве он похож на такого больного?
— Теперь стал похож. И ведь сколько, сколько раз я его просила…
Держа таз, покрытый полотенцем, Анна Филипповна вышла из кабинета, и Машенька побежала к ней.
Не зная, что делать, Трубачевский немного постоял в прихожей, потом на цыпочках пошел в столовую и сел, тоскливо оглядываясь. Растерянность была видна во всем. Сковородка с нетронутой холодной яичницей стояла на столе — должно быть, Машенькин завтрак. Какое-то белье, полотенце валялось — видно, что брошено в спешке.
Странные звуки поразили его: кто-то коротко дышал, и вдруг начиналось мычание, захлебывание, хрипение. Потом становилось тихо — и шорох, как будто что-то делали в тишине, и снова захлебывание, хрипение. Он понял, и у него сердце сжалось. Невозможно, невозможно представить себе, что эти звуки, и эта страшная тишина, и то, что сказала Машенька, что все это — Бауэр!
Все ходили растерянные, осунувшиеся. Только Анна Филипповна была спокойна. Она сварила кофе и накормила сестру, которая была здесь с утра, а теперь шел уже второй час, и до конца было еще далеко. Она приготовила для доктора мыло и чистое полотенце. Дважды она напомнила Машеньке о деньгах — «чтобы не забыть заплатить», — и все это тихо, без ворчания, которым прежде сопровождался каждый ее шаг.
Видно было, на ком все держится в этом доме.
Потом все куда-то пропали, и Трубачевский остался в столовой один. Сдержанным голосом Дмитрий говорил по телефону в прихожей. Имя Неворожина послышалось, и Трубачевский поспешно схватился за боковой карман, в котором лежал пушкинский черновик. Что делать с ним? Вернуть? Оставить здесь, в архиве?
Красивая седая сестра выглянула из кабинета.
— Попросите кого-нибудь, дочку.
Он побежал за Машенькой и столкнулся с нею в дверях.
— Идите, вас зовут. (Она с ужасом на него посмотрела.) Да нет же, просто сестре что-то нужно!
Она бессознательно повторила движение, которым все время закалывала маленькой гребенкой волосы, падавшие на лоб, и это так тронуло его, что он невольно схватил ее за руки, хотел сказать что-то…
Она отняла руки и пошла в кабинет.
— Книгу попросил, — сказала юна, вернувшись, — написал вот…
На старом конверте было написано знакомой рукою «А читать можно? Скучища!»
— Смеется, — добавила она недоверчиво. — То есть не смеется, а улыбается.
— Улыбается? — радостно переспросил Трубачевский. — Ну вот, видите? Что вы ему дали?
— Энциклопедический словарь «Пруссия до Фома» и «Россия».
Она тихонько засмеялась, но сейчас же стала опять серьезна.
— Знаете что… Вы здесь не сидите, в столовой. Нянька говорит — неудобно.
— Я пойду в архив, — испуганно перебил Трубачевский.
— Хорошо, я к вам потом забегу на минутку.
Но она не пришла. Прислушиваясь к звяканью посуды, к осторожному голосу врача, Трубачевский целый час просидел в архиве. Рукопись Пушкина, еще никому не известная, лежала перед ним, но он, разумеется, не прочитал ни слова. О чем только не передумал он за этот час! Вот Бауэр умирает, и он в последнюю минуту рассказывает ему о своей находке, о своих подозрениях; вот вместе с Машенькой он разбирает оставшиеся после него бумаги, и что ни день, то новые неожиданности и заботы. Вот он принимает посетителей по его делам. Вот в Пушкинском доме он делает доклад о его последних, еще не законченных работах… «Прошу почтить вставанием…»— и все встают, торжественные, печальные. Вот его приглашают принять участие в сборнике «Сергею Ивановичу Бауэру — Академия наук», и он берется за большой некролог.
Он так расстроился, сочиняя этот некролог, что не поверил ушам, услышав за стеной знакомый слабый голос:
— Ну вот, теперь, доктор, я вполне убедился в том, что ваша наука бессильна. Раньше думал, что только наша. Теперь вижу, что и ваша.
Дверь скрипнула. Машенька и Дмитрий вошли, и начался разговор, взволнованный, с недомолвками, с быстрыми, беспокойными вопросами и уклончивыми ответами врача. Бауэр молчал. Потом невесело рассмеялся.
— Ну, Сергей Петрович, говорите прямо. Рак?
Врач помедлил.
— Пока нет оснований, — негромко сказал он.
Все замолчали.
— А теперь вот что… Выпейте-ка вы чаю.
Дверь снова скрипнула. Трубачевский вскочил. Он не слышал шагов, но знал, что это Машенька. Хоть два слова сказать ей, хоть взглянуть!..
Он нашел ее в кухне.
— Машенька…
Она обернулась.
— Он умрет, умрет, — сказала она, и Трубачевский впервые в жизни увидел, как ломают руки.
2Шел пятый час, когда он вернулся домой. Окно в его комнате было открыто, и ветер сдул со стола листы. Он не стал подбирать. Рассеянно вытаращив глаза, бледный, он сидел на кровати…
Ему приснилось, что он приглашен на вечер. Приходит — все незнакомые, пожилые. Он здоровается, они сидя подают пухлые руки. Говорят, говорят. Он не знает, зачем он здесь и кто его приглашал. Ему неловко с ними, тоскливо. Но вот зовут к столу. Он берет вилку и не может есть. Они смеются. Он выходит: дом стоит на зеленой, поросшей травой горушке. Осторожно он идет вокруг дома — не по тропинке, а по траве, чтобы не было слышно шагов. За углом — какие-то люди, а в стороне бледный, худой Бауэр, впалая грудь, острый нос, большой землистый лоб. Он берет его за руку, рад. И старик прячет лицо в пиджак, смотрит исподлобья, печально…