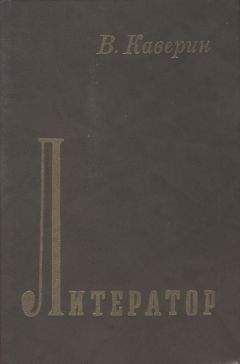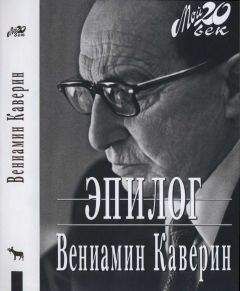Вениамин Каверин - Избранное
— Потому что дура, — злобно сказал Шиляев. — А за нами пришлют. И с поклоном. Разве ты не чувствуешь, чем запахло?
— Запахло жареным, — глупо пробормотал Блажин и засмеялся — он один, потому что Дмитрий невольно сделал предостерегающий жест.
И Трубачевскому показалось, что все уставились на него. Он хотел встать и уйти, но в это время Варвара Николаевна вернулась и сейчас же налила себе и ему водки.
— Я сегодня в дурном настроении, — сказала она грустно, — люди мне кажутся пресными, водка горькой.
— Он похож на братца Чурикова, — сердито сказал ей Трубачевский.
— Кто?
— Ваш Шиляев.
Братец Чуриков был какой-то сектант, которого он никогда не видел и лишь на днях узнал о нем из вечерней «Красной».
Потом все опять провалилось, и слышен был только шум голосов, стук ножей и вилок. Шиляев сказал что-то о большевиках, что они все меняли в стране, а теперь остановились, самим стало скучно и Трубачевский хотел возразить, но в это время все подняли рюмки, и он выпил. А потом уже поздно было, говорили о другом.
Откуда взялась эта роза, с которой он возился весь вечер? Он очень берег ее и даже Варваре Николаевне не дал, а ведь она, кажется, просила.
Он вырвал из какого-то альбома два листа папиросной бумаги и с серьезным, пьяным лицом долго заворачивал розу. Дважды он забывал ее там, где сидел, но возвращался и находил.
Он дал слово Варваре Николаевне, что завтра же придет к ней, а она сказала, что у него прекрасные глаза, когда он их не слишком открывает.
— Веки ровно на четверть должны закрывать зрачки, — сказала она и показала, как это «ровно на четверть». — Тогда вас будут любить, потому что вы будете красивый.
Она посмотрела на него — не только глазами, а всем лицом, с тем особенным откровенно женским выражением, от которого ему становилось страшно. Он вспомнил Машеньку и надулся.
Он забыл, что было потом. Кажется, он спал на диване. Когда он проснулся, свет был погашен и все вокруг серовато и шатко, как всегда во время белых ночей, Неворожин стоял, скрестив ноги, опершись о стол, а за столом сидела Варвара Николаевна. Она слушала его, не поднимая глаз. Трубачевскому виден был снизу ее энергический и нежный подбородок.
— Варенька, один вечер.
— Гадость, гадость, — сказала она с отвращением.
Неворожин холодно взглянул на нее. Губы дрогнули, она отвернулась.
— Вы сделаете это, не правда ли? Он мне очень нужен.
Если бы Трубачевский видел чуть заметное движение, которым сопровождались эти слова, он понял бы что речь идет о нем.
Должно быть, он снова уснул. Но одна минута осталась в памяти, и по ней он потом припомнил все остальное. Он сидел на диване. Все было серым в комнате, стальным, голубоватым и цвета сурового полотна. Серый, полосатый клоун вниз головой висел на экране перед камином. Варенька прошла мимо в легком, бесшумном платье, и он слышал, как она сказала:
— Мариша, нужно унять мужчин, которые хамят с Никой.
Голос был усталый.
Трубачевский приложил руку ко лбу. Все было противно и мерзко, даже этот голос; он не мог понять, как он раньше не догадался об этом.
Он встал и вышел в прихожую. Пес заворчал, и где-то в темноте зашевелилось его большое сонное тело. Макинтош лежал на стойке для палок. Трубачевский почему-то надел его, хотя всегда носил на руке, потому что макинтош был старый и рыжий. С неприятным чувством в спине, как будто кто-то смотрел ему вслед, он спустился по лестнице. Должно быть, уже поздно было, потому что дворничиха подметала панель. Хотелось курить, он машинально стал шарить в карманах.
Что это за пакет лежал в его макинтоше? Трубачевский долго смотрел на него, стараясь припомнить. Бумага была плотная, пергаментная. Он разогнул ее.
Небольшой, в четверть, голубоватый листок лежал в этом пакете. Листок был исписан короткими строчками, много раз перечеркнутыми, профиль в колпаке нарисован среди начатых и брошенных вариантов. Этот почерк, который Трубачевский узнал с первого взгляда, несмотря на пьяную, бессонную ночь, этот почерк был Пушкина.
Он огляделся: улица, церковь. Солнце вставало, и большие косые тени церковной решетки лежали на панели. Дворничиха подметала. Все было достоверно, просто и ничуть не похоже на сон.
Он еще раз взглянул на листок, исписанный пушкинской рукой. И вдруг понял — впопыхах он надел чужое пальто.
Он вернулся. На лестнице горели лампы, и была еще ночь, он только теперь это заметил. Кожаное и желтое. Он медленно поднимался. Пальто Неворожина.
Он остановился. Он вспомнил все; первый вечер у Варвары Николаевны и этот разговор с намеками, которых он тогда не понимал. Шаги в архиве, отодвинутый стул, задетый чьим-то движением шнур переносной лампы. И эта пачка бумаг, пропавшая в тот день, когда он явился к Бауэру со своим открытием.
Голоса послышались за дверью, и он едва успел спрятать пушкинскую рукопись в карман своего пиджака.
Под руку с женщиной Дмитрий вышел на площадку. За ним рыжий Блажин в маленьком кепи, Шиляев, еще кто-то. В глубине, в светлом пространстве., выпавшем из внутренних дверей, стояла Варвара Николаевна.
— Вернулись? А мы вас искали.
— Я надел чужое пальто, — глухо и с трудом сказал Трубачевский.
Она обернулась.
— Борис Александрович, не ищите, ваше пальто здесь… Хорош!.. — сказала она с упреком. — Убежал и даже не простился.
Трубачевский молчал. Неворожин появился в дверях.
— Простите старого дворянина, — полусерьезно сказал он и подал Трубачевскому его макинтош.
Внизу, в подъезде, слышны были голоса и смех. Кто-то крикнул: «Варенька, до свиданья!» — и эхо отдалось, как в горах, коротко и гулко.
— Пошли провожать Митю, — сказала Варвара Николаевна. — Вам, кажется, по дороге?.. Приходите завтра, — добавила она негромко и взяла его за руку. — Мне будет скучно, а когда мне скучно, я очень нежна.
В эту ночь Карташихин проснулся в пятом часу. По свету он понял, что еще рано, но спать больше не хотелось, и он стал думать. Вчера был свободный день, он приехал из Луги, где институт стоял в лагерях на военно-санитарном учении. Сегодня назад, и поезд в шесть двадцать.
Голый, в одних трусиках, он отправился на кухню, подождал, пока выбежит согревшаяся в трубах вода.
Холодный и свежий, с мокрой головой, он бесшумно (чтобы не разбудить Матвея Ионыча) прошел в свою комнату. Макая карандаш в чернильницу, он на газетном листе написал старику записку: «Жив и здоров. С коммунистическим приветом. Иван Карташихин». И приписал: «Четвертой роты, первого взвода».
Он повесил газету в прихожей, на видном месте (маленькими записками Матвей Ионыч пренебрегал), и вышел, тихонько притворив выходную дверь.
Ворота с Пушкарской были закрыты. Ему не хотелось будить старую татарку, оставшуюся дворничать после смерти мужа, и он пошел к другим воротам, на улицу Красных зорь.
Шумная компания ломилась в эти ворота. Пока дворник гремел ключами, они ругали его ласковыми пьяными голосами, а потом ввалились во двор, хохоча и хватаясь друг за друга, нарядные, в светлых пальто пахнущие вином и духами.
«Пижоны какие», — равнодушно подумал Карташихин. Он хотел пройти — и приостановился. Почти рядом с ним под руку с женщиной, красивой, но чем-то похожей на крысу, прошел Трубачевский. Карташихин посмотрел ему вслед и покраснел.
— Ну что ж! Твое дело.
Окликнув дворника, уже запиравшего ворота, он вышел на улицу.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Профиль в ночном колпаке — Вольтер — был нарисован отлично, с небрежным, ядовитым выражением, с большой, смеющейся нижней губой. Строки наезжали на него, кончаясь в самом колпаке, и под губой было намазано несколько неразборчивых слов.
Трубачевский взял лупу. Он не спал всю ночь и еще полчаса назад, возвращаясь домой, чувствовал такую усталость, что чуть не заснул на лестнице, дожидаясь, когда встанет отец.
А теперь все прошло. С ясной головой сидел он над рукописью.
Водяные знаки были отчетливые — 1823 год; но писано не раньше двадцать восьмого. Не раньше двадцать седьмого появляется это Д, похожее на прописное французское Z, это Ж с огромной петлей в середине — все преувеличения почерка, начинающего уставать. Первое слово, потом строка были разобраны очень быстро, — и вот он уже обо всем на свете забыл! Отец пил чай в столовой и дважды окликал его — он и слышал и не слышал. Звонок раздался, знакомый почтальон что-то сказал отцу, газета зашелестела. Быть может, письма?
— Коля, письма, — негромко сказал отец.
Он даже не обернулся.
Ловя здесь и там отдельные разборчивые слова, он наскоро пробежал всю рукопись, и то, что он прочитал, изумило его. Строфы, над разгадкой которых он работал с таким упрямством, были набросаны здесь в простом, незашифрованном виде. Он узнавал слова, находил рифмы, угадывал целые строки. Судя по первой строфе, можно было принять эти стихи за вариант «Героя», — он встретился с ней как со старой знакомой: