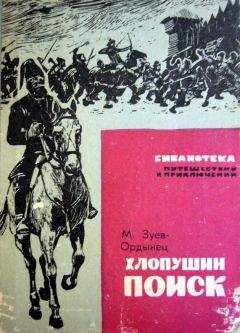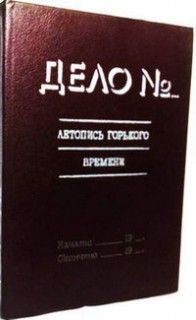Михаил Зуев-Ордынец - Вторая весна
— Приказано, Вася, — опустил глаза Полупанов.
— Ух! Бить буду вас таких, абсолютных чемпионов ленинградских! И под душу и под ребро бить буду! — пьяно взрыдал Мефодин. — Машину утопили — цветочки! А ягодки — вон они! — указал он на горы. — Загремите в пропастину, как архангелы! Туда вам и дорога!
— Мерзавец! — холодно сказал где-то за спиной Бориса Неуспокоев.
— У нас в армии за такое… — угрожающе вздохнул рядом Воронков.
Растолкав людей, выбрался в первые ряды Федор Бармаш. В руках его было брезентовое ведро, только что налитое из колодца. Он встал против Мефодина, пристально, молча разглядывая его. Мефодин притих и тоже молча смотрел на Бармаша.
— Вошь поганая, — тихо, задохнувшись, сказал Бармаш и, подхватив свободной рукой дно ведра, выплеснул его в лицо Мефодину.
Тот отшатнулся, захлебываясь, и с ревом кинулся на Бармаша:
— Разражу, сволочь!.. Вобью нос в мозги!..
Но Бармаш не допустил его до себя. Спокойно и деловито, так казалось со стороны, он ударил мокрым, тяжелым ведром в широкую скулу Мефодина. Шофер от этого спокойного удара шатнулся набок, почти падая. И сразу отрезвел. На лице его появилась смятая, виноватая улыбка.
— Аккуратненько, Федя, выдал! — с одобрением крикнули в толпе.
А Бармаш, шваркнув об землю ведро, закричал:
— Хлебом хотим засыпать людей! Не для себя ведь!.. С радостной душой шел! Думал, тут чистые руки и душа чистая будет… А тут, оказывается, пьяницы, да хулиганы, да всякая шатия-братия собралась!..
— Бармаш, отставить! — с армейской звонкостью скомандовал Воронков. — Один, может, такой, аморальное явление, и нашелся!
Федор поднял ведро, постоял, подумал и, ничего не ответив, раздвинув толпу, пошел к колодцу.
К Мефодину, тупо смотревшему в землю, снова подступил Грушин, поднял сбитую водой «бобочку», встряхнул и, напялив на Васины кудри, сказал негромко, уговаривая:
— Уходи, Василий, не срамись. Посмотри на себя, какой у тебя моральный облик. Не на должном, брат, уровне.
— Ладно, дядя Степа, — не поднимая глаз, ответил шофер. — Для тебя только… Васька Мефодин ушел!
Он хотел молодцевато повернуться, но его качнуло, и он ринулся головой вперед.
И, словно это было командой, люди с громким разговором и смехом, стали расходиться. Баянист, самозабвенно закрыв глаза, растянул уже баян, и снова закружились по спортплощадке пары, пока еще девушка с девушкой и парень с парнем.
Борис остался с Воронковым, Антониной, Виктором и Лидой смотреть на танцы.
— До чего же нехорошо получилось с Мефодиным, — вздохнул Илья. — До чего же нехорошо! Не охватили парня, не дали ему твердую установочку.
— Э, бросьте вы, Илюша! — отмахнулась Тоня. — Так ему и надо! Хулигану городскому!
Илья удивленно посмотрел на девушку, и та ответила ему взглядом насмешливого вызова:
— А после вашей установочки он и пить перестал бы и хулиганить? Тоже мне! Из пса солонины не будет!
— Я тоже считаю, что цацкаться с ним нечего, — солидно оттопырил губу Борис. — Еще вчера я думал о нем лучше, чем он есть. Сегодня я хотел говорить с директором, просить оставить Мефодина на машине, оставить в совхозе во всяком случае. Хорош я был бы, если бы полез к директору! Просто законченный алкоголик и хулиган. Слышали, как он обкладывал меня? — Чупров помолчал и добавил мстительно: — У него и в прошлом было что-то такое…
Воронков медленно повел на Бориса глазами, посмотрел так внимательно, что Чупров вспыхнул и обиженно поджал губы.
— Нет, мы его не выбросим из наших стройных рядов. Обсудить, конечно, придется на общем собрании, но мы его оставим и перевоспитаем! — послышалась звонкость в тенорочке Воронкова. — В таком разрезе я буду говорить о Ваське и с Грушиным, и с директором, и с Курман Газизычем. — Илья поднял глаза на небо. — А день-то какой! Эх, и денечек же! Испортили такой день, дурошлепы! Пошли танцевать, что ли, Тонечка?
— Тоже мне, танцплощадка! — поджала высокомерно губы Тоня. — Я уже пробовала, ногу ушибла.
— До свадьбы заживет.
— Долго ждать. Женихов что-то не вижу.
— А вы меня возьмите… В сваты, — бросил Илья на девушку быстрый взгляд. — У меня во взводе тридцать шоферов, я тридцать первый. Все молодые, все холостые, все красивые.
— Тоже мне, муж-шофер! — тоненько смеялась Тоня. — Жоржики городские, набалованные. Ни за что за шофера не пойду!
— А шофер вас выкрадет, — взял Илья девушку под руку, приблизил губы к ее уху и пропел: — «Подлечу, прозвеню бубенцами и тебя на лету подхвачу!» В машину, само собой. И с ветерком! Попробуй, догони шофера!
Тоня смеялась, откинув голову, Илья опять запел про бубенцы, Лида тащила Виктора танцевать, тот упирался:
— Что ты, что ты! Я как медведь танцую. Не пойду!
Все забыли про Бориса, хотя он стоял рядом. А его жгла обида, уязвленное самолюбие. Получилось, что Воронков будто бы оборвал его. Нет, так дело оставить нельзя.
— Воронков, послушай, — начал он.
— Погодите! — остановил его Илья, к чему-то прислушиваясь. — Кого это он исповедует? Прораб.
Голос Неуспокоева доносился издалека. Он был ровен, спокоен, но тем неожиданнее были произносимые слова:
— Воруешь, подлец? Воруешь, скотина тупорылая?
Борис повернулся и быстро пошел на голос прораба. Потом побежал.
Глава 21
Очень неприятная, за что извиняемся перед читателями
Прораб, без пальто и без берета, в шелковой сетке на волосах, стоял в позе небрежной, даже скучающей, расставив циркулем ноги и заложив руки за поясницу. И скучающим голосом цедил:
— Эт-то что такое? Кто вам позволил, скоты?
Перед ним стоял чернобородый, могучего сложения колхозник. В полу рубахи он положил пяток кирпичей и по кирпичу зажал под мышками. Трое остальных сидели уже на лошадях. В полах рубах у них тоже были кирпичи. Больше никого рядом не было. Все толпились на спортплощадке. Подбежав, Борис встал рядом с Неуспокоевым. Но прораб не заметил его.
— Положи кирпичи на место! — уже раздражаясь, крикнул он колхознику.
Тот непонимающе улыбнулся и растерянно поглядел на своих товарищей.
— Не понимаешь? Так я тебе разъясню. Прораб выкинул из-за поясницы руки, левой схватил за ворот рубахи колхозника, а правую, сжатую в кулак, поднес к его лицу.
— Бить вас, скотов, за это надо! Положи обратно!
Чернобородый отшатнулся, выпустив полу рубахи. Кирпичи посыпались ему на ноги. Не спуская глаз с кулака прораба, он ловким, точным движением схватил упавший кирпич и замахнулся.
— Брось! Не смей! — отступив трусливо, закричал Неуспокоев.
Казах вдруг засмеялся дружелюбно, бросил кирпич и протянул прорабу руку, не то показывая, что она пустая, не то в знак примирения.
— Нет, погоди! — отбросил Неуспокоев протянутую ему руку.
Борис увидел, как бешено дергалось его веко.
— Да как ты смел, мерзавец? Кирпичами замахиваться? На меня?! — сдавленным, перехваченным злобой голосом заорал Неуспокоев и широко размахнулся, занося все еще не разжатый кулак.
Борису казалось, что он не сделал ни шага с места, но руки его уже вцепились в плечи прораба. Раздувая ноздри и оскалив зубы, он тряс, дергал и толкал Неуспокоева, выкрикивая чужим, незнакомым голосом:
— Ты… ты… Не смей!..
Они стояли, хрипло дыша друг другу в лицо, сцепившись и руками и ненавидящими взглядами. Жаркая слепота бешенства застлала Борису глаза, но и через жаркий этот туман он видел глянцевитую от свежего бритья щеку прораба и всем сжавшимся телом чувствовал, что сейчас ударит в эту приторно надушенную щеку. Он поднял для удара правую руку, но она почему-то отяжелела, ее что-то тянуло вниз. Это Шура повисла на ней и, прижав Борисову ладонь к своей груди, шептала одни и те же слова:
— Не надо… не надо… не надо…
Борис мягко освободил руку и сделал шаг назад, переломив ярость, но не отводя еще от лица прораба бешеных глаз.
К ним сбегались люди со всего двора. Борису не хотелось с кем-либо встречаться, что-либо объяснять, и он поспешно пошел прочь. Но отошел недалеко. За спиной его послышалось взволнованное дыхание. Он оглянулся и увидел Шуру.
— Проводите меня немного. Нет, пойдемте в сад. Мне надо с вами поговорить, — не глядя на Бориса, сказала она и взяла его под руку.
И только тогда он почувствовал ломоту в до сих пор еще судорожно стиснутом правом кулаке, удивленно посмотрел на него и с трудом разжал.
Они пошли к саду, а за спиной их встревоженно и недобро гудел школьный двор. Ни песен, ни музыки там не было слышно.
От этого недоброго людского гула уходил и Неуспокоев, уходил не спеша, с достоинством, хотя и хотелось прибавить шагу. Скорее по охватившей его тревоге, чем по слуху, он почувствовал, что кто-то идет сзади в нескольких шагах. Прораб оглянулся, увидел, что его догоняет незнакомый человек, и раздраженно подумал: «Начинается!»