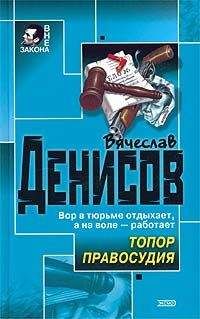Юрий Карабчиевский - Жизнь Александра Зильбера
Рассказов моих она не читала, да я и не писал теперь ничего: можно ли сочинять, находясь во сне, в поле собственного воображения?.. Но были прежние, сочиненные раньше, и их-то она как раз не читала. Она была в курсе — и не просила, я был горд — и не предлагал. И только однажды — в тот самый день — она заметила легко, без особого интереса:
— Почему, собственно, рассказы, почему не стихи?
Я удивился:
— А что ты имеешь против?
— Да нет, что ж, мне все равно. Но мне кажется, никто не пишет рассказов, все — только стихи.
— Как это все? Как это все? Откуда же, по-твоему, берется проза?
— Ну, так то настоящие писатели….
А! Вот… И она туда же!
— Ну-ну, не надо, не заводись, — снисходительно-грустный взгляд и эта ее улыбка… — Не надо, Сашенька, брось, я ведь так… Я и книг-то почти не читаю.
Но я уже почувствовал укол вдохновения, так важна и редка была для меня эта тема, так много всякого здесь накопилось, так хотелось кому-нибудь это высказать, и чтоб кто-нибудь понял, и разумно кивнул, и радостно согласился — и особенно ей, и особенно чтоб она!..
— Нет, ты пойми, тут дело не во мне, тут важна общая закономерность. Вот ты говоришь, почему не стихи. (Ничего она больше не говорила, сидела молча, вполне безучастная, я же гнал свое, гнал свое, думая, что приближаюсь к ней и захватываю, в то время как удалялся и упускал.) Действительно, кто же не пишет стихов? Но на самом деле стихов-то никто и не пишет! Тут, понимаешь, происходит накладка. Потому что формальные признаки стиха гораздо более четки и различимы…
— Саш… — сказала она тихо, теперь уже опять на меня не глядя. — Ни к чему это, а? Не надо. Я ведь здесь все равно ничего…
— Ты поймешь! — заторопился я. — Ты поймешь, это очень просто. Я быстро, я в двух словах. Ну вот, а поэзия-то вовсе не в этом, совсем не в этом, далеко от этого.
— В чем же поэзия?
— В гармонии! И только в ней. А уж это вещь непонятная, необъяснимая…
— Ну вот, видишь, необъяснимая.
— Что ты, что ты, чудная ты, Томка, именно в этом-то все и дело, это и есть самое важное: понимать необъяснимость, принимать невозможность и не лезть со своими дурацкими рифмами, если не чувствуешь высшего дара. Это просто позорно — писать стихи, человек, со вкусом никогда не станет…
— А ты?
— Всерьез — никогда. Разве так, безделушки для стенгазеты…
— Значит, высший дар. А у тебя какой?
— Нет, ты не смейся (она не смеялась). В поэзии главный ее результат, ну, понимаешь, то, ради чего все и делается, есть не столько отражение-отображение, сколько новое, не бывшее ранее качество…
Я спешил, я был переполнен словами, и все казались мне равнозначными, мешали друг другу, теснились у выхода, оттого и вырывались такими уродами. Я пытался выстроить их хоть по росту, придать им плавный, разумный ход — и терял окончательно ее внимание.
— Ну вот, — говорил я, — а с другой стороны, если взять формальные признаки прозы, то они совсем не столь очевидны и поэтому…
— Я хотела тебе сказать…
— …и поэтому не так уж много охотников…
— Ты знаешь, послезавтра я уезжаю.
— …браться за это неблагодарное…
Я замолк наконец.
— В пионерский лагерь. На Черное море. Вожатой.
Ну что ж, никуда мне от него не деться, этого следовало ожидать. Теперь, когда я вышел из подвластного ему возраста, он исхитрился мучить меня на расстоянии. Он усыпил мою бдительность, подарив мне Тамару, и сам же теперь у меня ее отнимает — изощренная пытка, ловко придумано! Неважно, что это уже другой, в другом лесу, по другой дороге, с другим забором, другими детьми — ах, да, не в лесу, на Черном море, за две тысячи километров, — все это одно многоликое чудище, безграничное в пространстве и времени. На две только смены. Что ж, довольно и двух. Разве я и она — разве мы не знаем, чем занимаются вожатые в лагере? Первое же, что пришло мне в голову, был укромный, специально выстроенный шалаш, где застукали ребята нашу пухлую Веру с вожатым второго отряда Славой. Потом все ходили по лагерю и хором повторяли придуманное с ходу приветствие: «Слава Вере! Слава Вере!» — и в паузу тише, но так, чтобы было слышно, добавляли один простой глагол…
Ничего я, конечно, этого ей не сказал, только спросил, как она оставляет Герасима.
— С тетей Полей побудет, — ответила она в обычной своей манере. Как будто это само собой разумелось, как будто я должен был знать, что неделю назад приехала какая-то тетя Поля, дальняя родственница из Новосибирска, которая чуть ли не с детства тайно любила Герасима и теперь вот, кажется, наконец решилась и хочет «соединить с ним судьбу».
— Хорошее выбрала время, — сказала Тамара. — Он как раз в женихи поспел!
Но я не смеялся над бедной женщиной, я-то вполне ее понимал.
Глава третья
1
Странная вещь — я почувствовал облегчение. Это было как бы затянувшееся свидание в скверике, где я часто теперь сидел в одиночестве, листая свою записную книжку, что-то снова пытаясь писать. Я еще боялся себе признаться, но, кажется, перерыв пошел мне на пользу…
Я работал в скверике у Самарского, если было сухо и не очень холодно, — этим словом работая чуть ли не вслух называл теперь странное свое занятие. Был какой-то суровый покой в этом слове и неяркая, но неизменная радость — как бы чувство здоровья и физической силы.
В цехе я старался больше не оставаться, встречи с кофмановскими пассиями не доставляли мне теперь удовольствия. Иногда лишь, в плохую погоду и если точно знал, что Кофман уходит.
И еще я ездил в Серебряный бор. Рядом в поселке был чистый пруд, и ребята купались после работы. Но я предпочитал путешествие через город, не такое, впрочем уж, длинное. Троллейбус от Белорусского, двадцать минут — и другой мир, ни поселка, ни города, ни работы, ни знакомых, во всяком случае, тех, что с работы… Я шел в Татарово через лес, торопливо раздевался на пустеющем пляже и с ходу, еще не остыв, кидался в воду. Вот еще одна, можно сказать, стихия, где я чувствовал себя, как дома. Впрочем, дома я себя так не чувствовал… Отчего никогда мы не ездили с ней купаться? Я бы мог показать себя далеко не с худшей, а главное, не безразличной ей стороны. Ну да, у нас ведь еще не случалось лета… На том берегу была деревянная набережная, витые разноцветные ступенчатые спуски и безлюдные просторные раздевальни — дачи каких-то неведомых высших чинов.
Там я любил бродить в одиночестве, представлял себе, что попал за границу, разговаривал сам с собой по-английски, поджидал прекрасных принцесс и фей. Но, заслышав чьи-либо голоса за деревьями, тут же прыгал в воду и плыл обратно — на привычную, скучную, но родную и безопасную землю.
Я ложился влажной спиной на песок, сохранявший остатки дневного тепла, лежал, подрагивал всеми мышцами, смотрел в небо, в даль, в бесконечность и не думал ни чуточки о Тамаре — то есть думал о ней непрерывно…
И вот однажды пришло письмо… Я не ждал от нее никаких писем, я ждал возвращения — оставалось не больше недели. Полная была неожиданность.
— Тебе письмо! — сказала мама отчетливо, ясно и громко, так, чтобы было слышно и понятно в отдаленнейших уголках нашей необъятной кухни. Наши тетки и бабки оторвались от лото и хором на меня посмотрели. Письмо лежало здесь целый день, и все они читали обратный адрес. Я схватил его молча и сразу же отвернулся, ушел, исчез, провалился сквозь землю. Я читал во дворе, прислонившись спиной к глухой безоконной стене тамбура — так называли у нас пристройку с лестницей, ведущей на второй этаж. «Милый, милый мой Саша, здравствуй!» Это чеховское обращение сразу меня резануло, что-то в нем было ненастоящее, неискреннее. Неее. Плохо, подумал я, дрожа, как в ознобе. Но дальше шло нечто, уже вовсе мне не понятное. Каждой своей клеткой я ощущал бесконечную важность написанных слов, но что они именно для меня означают — радость или несчастье, — никак не мог оценить. «Мне так плохо здесь без тебя, зачем ты меня отпустил?..» Радость: ей без меня плохо и, оказывается, я мог и не отпускать! «Я поняла здесь, что никто мне так не близок и ни с кем мне так не хорошо, как с тобой…» Радость: я близок и со мной хорошо. Несчастье: ни с кем и, значит, с кем-то тоже, не так хорошо, но было… Что?! С ума можно сойти! «Но, видно, нам с тобой не судьба…» Что? Почему? Почему?! Что?! «Так случилось… Когда ты получишь это письмо, все уже будет кончено…» Да что же это такое, Господи! Нельзя же так издеваться над человеком! «Я уже не буду прежней твоей Тамарой. И вообще не буду твоей…» Несчастье, несчастье, несчастье!
Ну зачем в одиночку, давайте посмеемся вместе. Это же так просто. С чего начнем? «Когда ты получишь… все будет кончено…» Вот. Обхохочешься над двусмысленностью этих слов. Дальше. «Я уже не буду прежней…» Тут еще кое-что добавить — и просто помереть можно со смеху. Ясно же, о чем — нам-то с вами, теперь-то, — ясно же, о чем идет речь!