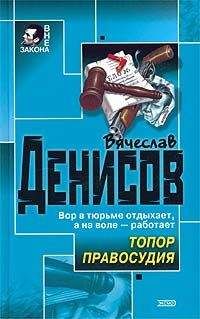Юрий Карабчиевский - Жизнь Александра Зильбера
4
Она загорела, это удивительно. Никогда раньше не загорала.
— Так то здесь, а то на юге. Там хо! Там загоришь!
Страшная бездна неведомого там открывается мне в этих ее словах. Там все иначе, там другая жизнь, не имеющая ко мне никакого касательства. Да что! Достаточно простого соображения: сколько времени надо пролежать полуголой на пляже под мужскими дотошными взглядами, чтобы ей, незагорающей, так обуглиться?! И кто это просто пройдет мимо, не заговорит, не заденет? Разве такой же слюнтяй, как я… Да, дети, пионеры… Но дети не помеха. Даже, скорее, наоборот. Я не раз замечал, что дети создают некий тревожный, будоражащий фон, их близость вносит дополнительное волнение…
— Томка, — говорю я, наконец решившись, — скажи, что случилось?
Это обращение сегодня звучит фальшиво. Я не чувствую ее близости, даже той, что была до отъезда. Какая она мне Томка? Дай Бог еще, если Тамара…
— Ничего не случилось. Она смотрит ласково (точно ли? Кажется, да…), но и как-то строго. Не надо, не надо больше спрашивать, но я проскакиваю уже по инерции:
— А письмо? Как же письмо? Что, все неправда?
— Почему неправда? Правда, что было мне плохо.
— А теперь?
— А теперь хорошо…
Вот и весь разговор.
Мы сидим в электричке, едем в Текстильщики, на какую-то вечеринку к Ромкиньм близким знакомым. «Видел я твою бабу, — сказал мне Ромка (всех-то он видит). — Ничего не скажешь, перший класс! Значит, та самая? Докопался? Стоило! Молодец. Завидую. Ты бы пришел с ней как-нибудь вместе, у нас компания — во! Все свои, и парни, и девки, весело, по-домашнему…» Я был уверен, что Тамара откажется, но она с готовностью согласилась. Никогда, ничего я не знал про нее заранее!
И вот мы сидим в электричке, народу полно, и двое нищих входят в вагон. Один — слепой, рябой, с плотно сомкнутыми веками, с большим немецким аккордеоном. Второй — без ноги, на костылях, с опрокинутой кепкой в руке. Он весь зарос бородой, как Герасим, но борода у него темная, почти черная, вид страшноватый. Они весело проговаривают свой эстрадный речитатив поочередно, деля его на короткие периоды.
— Дорогие товарищи!
— Уважаемые граждане!
— К вам обращаются два несчастных калеки.
— Два инвалида.
— Проливавшие кровь за вас.
— И за ваших детей!
— Дорогие граждане!
— Уважаемые пассажиры!
— Не оставьте калек помирать с голоду.
— Окажите последнюю милость.
— Помогите вашей трудовой копейкой.
— Пострадавшим в жестоких боях.
— За нашу родину.
— И за ваше безмятежное счастье!
— Не смей! — она хватает меня за руку. — Ничего не давай. Я их всех ненавижу! Сейчас насобирают и пойдут пьянствовать и над тобой же еще посмеются.
— Ну и пусть пьянствуют, что им еще остается? Мое дело подать, а уж как они эти деньги истратят… И потом, не у каждого такая дочь…
— Я не хочу, чтобы ты говорил об этом. Мне это больно, понимаешь?
— Понимаю. Прости меня.
— Прощаю. И не надо мне твоих комплиментов. Я и его ненавижу. Я бы всех их заперла куда-нибудь и держала.
— В тюрьму? Так их и без тебя сажают. Уж не знаю, как эти-то уцелели.
— Специально для тебя оставили. Радуйся!
— Я и радуюсь. Ты не знаешь, что такое тюрьма. Ты бы послушала моего Якова — стала бы радоваться за каждого, кто туда не попал.
— Ну, тебе-то, например, не грозит ничего такого…
— Почему же не грозит? От тюрьмы и от сумы… знаешь?
— Болтовня. Не люблю я эти пословицы.
— А Яков любит. Только он считает, что сума — это сумма или сумка с деньгами. От тюрьмы и от суммы — не зарекайся.
— Болтовня. Если ты честный человек…
— А тридцать седьмой? А все остальное?
— Господи, так то когда было!
— Ничего, и теперь кое-что найдется. Еще передачки мне будешь носить. А, б, в, г… по восьмым числам на букву «З».
— Перестань, не надо!
— Хотя нет, не будешь. Обрадуешься, выскочишь замуж…
Впервые в разговоре с ней я произношу это странное, постороннее, чужое слово. Медленным, мягким движением она забирает мою руку, кладет ее себе на ладонь, накрывает своей ладонью.
— Не надо так говорить, хорошо? Никогда так больше не надо, ладно? Не будешь так со мной говорить?
Не буду, хочу я сказать. Никогда! И еще какую-нибудь такую клятву, в чем-нибудь таком, навсегда, навеки… Но вот — как мало мне надо! — тугой комок уже подкатился к горлу и я только молча киваю: «Все будет, как ты захочешь!»
А слепой играет, а безногий поет, и вот они стоят уже против нашего ряда и смотрят прямо на нас. То есть смотрит, конечно, только зрячий, но и закрытые веки слепого направлены точно сюда же. Безногий трогает локоть слепого, аккордеон неожиданно замолкает.
— Тимохвей! — громко взывает безногий в полной почти тишине. — Тимохвей, посмотри сюда! Да, я знаю, Тимохвей, ты не можешь смотреть, подлые фашисты в смертельном бою выбили твои ясные очи. Не жалей об этом ни капли, это я тебе говорю, твой друг Михаил! Потому что я знаю твое чувствительное сердце. Если бы ты, Тимохвей, был зрячим, как я, ты бы снова ослеп сейчас, глядя на эту невиданную красоту!
— Сволочь! — шепчет Тамара, отворачиваясь к окну.
Тянутся головы — разглядеть невиданную красоту. Кое-кто встает с места, кое-кто из стоящих в проходе подходит поближе. Слепой Тимофей неподвижен, как камень, молча ждет окончания репризы. Я делаю шаг к безногому Михаилу и протягиваю ему трехрублевую бумажку. Но он — увы! — не торопится брать. Так я стою с протянутой рукой — не он, а именно я! — он же продолжает свой монолог, уютно повиснув на костылях, патетически вытянув вперед руку над высоким, неестественно вздыбленным плечом.
— Ты не видишь, Тимохвей, но я-то пока еще вижу. Мои глаза, Тимохвей, это твои глаза. Что же видят твои глаза, Тимохвей? Они видят сердечного друга этой красавицы, лучшего в мире парня. Все, что имеет, он отдает несчастным калекам. Но что поделать, Тимохвей, если нет у него за душой ничего, кроме этого паршивого трешника?
Весь в поту, я начинаю уже делать обратное движение, когда паршивый трешник вдруг как бы сам выскальзывает из моей руки и легко впархивает в кепку безногого.
— Что ж, — говорит он, вздыхая, — и на том спасибо…
Все. Его роль исчерпана, он замолкает и гаснет, как выключенный приемник. И тогда с той же электронной неотвратимостью оживает слепой. Аккордеон его звучит, как шарманка, механически ровно и монотонно, безо всяких вариантов от куплета к куплету. И поет он чистым и ровным голосом, в точности следуя за мелодией, не опережая ее и не запаздывая, и если бы не движения его губ, то казалось бы, что и слова песни извлекаются им из того же аккордеона.
Ниночка, моя блондиночка,
Подруга дней моих суровых на войне!
Ах, Ниночка, моя блондиночка,
Родная девушка, ты вспомни обо мне!
— Будь здоров, сынок, — говорит, встрепенувшись, безногий. — Будь здоров, сынок! — говорит он голосом Герасима. — Береги ее, она у тебя одна. Поверь старику Михаилу — такую два раза в жизни не встретишь!..
И они уходят дальше, уходят дальше, направляясь в другой вагон, и слепой все поет и играет — уже не громко, уже вполголоса, не так уже, кажется, механически, а чуть ли не для себя.
Ах! Где ж! Ты!
Ниночка, моя блондиночка,
Родная девушка, ты вспомни обо мне!
Родная девушка, ты вспомни обо мне…
5
Зря я поддался на Ромкины уговоры. Очень скоро я понял, что не надо было мне приходить. С Тамарой — ни в коем случае. Нет, совсем не то, что вы думаете. Там была вполне семейная атмосфера, все закреплены друг за другом попарно, никаких нарушений, разве что танцы. Танцевали, пили, болтали, шушукались — все как в культурных домах. Но тут примешалось одно обстоятельство… Такая сложилась компания… Слишком, что ли, семейная атмосфера… Как бы это сказать?
(Вот уж действительно, исцелися сам! Сколько раз, как провинившийся школьник, я должен написать это проклятое слово, чтобы приучить к нему наконец осторожное ухо и стесненный язык, чтоб оно звучало естественно и просто, как, к примеру, нет, не скажу «англичанин», но хотя бы «литовец» или «узбек»? Сколько раз — миллион, миллиард? Жизни не хватит…)
Так вот, такая сложилась компания, что хотя никто из них толком не знал языка, тем не менее все избегали говорить по-русски, находили хромые эквиваленты, кое-что действительно вспоминали, лепили артикли и нейтральные формы. Так сказать, подъем национального сознания…
(Мне тяжело об этом писать. Я не чувствую ритма собственной речи.)
Мы пришли позже всех, и я ни за что не ручаюсь, но они могли успеть сговориться. Нас окружили особой заботой, особым насмешливым вниманием. Буквально окружили — водили хороводы, пели, танцевали, оставляя в почетном центре, не приглашая к участию. Несколько раз пытались нас разделить, оттереть меня во внешний круг, оставить в центре одну Тамару. Словом, было несколько постыдных моментов, когда мне хотелось крикнуть, как Герасиму… И потом каждый раз я не столько им, сколько себе самому ужасался.