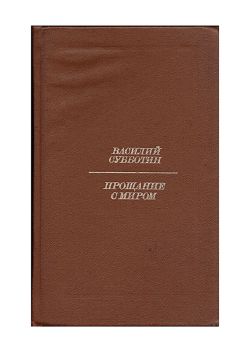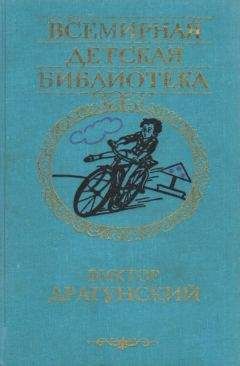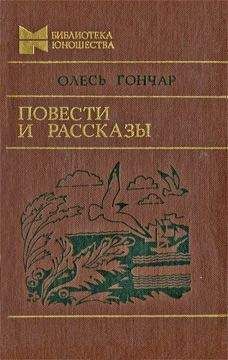Василий Субботин - Прощание с миром
До меня только тут дошло, кто это был. Я вошел в дом друзей и рассказал, как я только что чуть не сбил с ног их соседа. Его особняк находился рядом, недалеко от сильно обшарпанного, очень неказистого дома, в котором они жили. Мать моего друга, посмотрев на других членов семьи, сказала, что тут надо быть осторожнее, что здесь, на этой улице, в этом переулке, особый паспортный режим, что их каждый раз прописывают только на три месяца.
Сказала мне еще, что каждое утро он, прежде чем ехать в Кремль к себе, идет до Никитских ворот пешком и уже только потом садится в следующую за ним машину…
Вот так вот.
Не самая худшая, скажу я вам, встреча. У других — были хуже.
Афанасий
Не забыть мне этого мальчика из Якутии. Звали его — Афанасий. У нас ребят таких молоденьких с подобным именем нельзя уже было встретить в то время, а там, как видно, имена эти еще были в ходу. Он приехал в институт из своей Якутии и не только в Москве, но и вообще нигде, кроме как у себя в Якутии, еще не бывал. Нигде до того времени не бывал и вдруг сразу приехал в Москву. Небольшого роста, худенький, с черными, как бы изумленными глазами. Их двое было у нас из Якутии, он и его товарищ, два мальчика, два сверстника. Видно, только что кончили школу. Я жил с Афанасием в одной комнате в общежитии. Первое время мы жили за городом, в Переделкине, и каждый день ездили электричкой на занятия, возвращались с занятий поздно и очень уставали. Один раз я проснулся ночью и услышал, кто-то разговаривает. Прислушался, а это во сне Афанасий разговаривает. «Москва, да, Москва!..»— повторял он восхищенно, восторженно. Шел уже второй месяц, как он приехал в Москву, а он все не мог привыкнуть к Москве, все еще был возбужден, взбудоражен… Мы и после, когда перебрались в общежитие в Москву, жили с ним в одной комнате.
Очень хороший был парень, добрый, заботливый, чистый. Я скоро заболел, лежал в больнице на Петровке. Афанасий приходил навестить меня, получил для меня стипендию, покупал мне какую-то еду…
В первое лето домой они на каникулы к себе не поехали, на самолет не хватало денег, а по железной дороге было бы долго, все лето, говорили они, ушло бы на дорогу. Но после второго курса — як этому времени уже ушел из института — поехали к себе, и тот и другой.
С началом занятий Афанасий в институт не вернулся. О том, что случилось с ним, я узнал после, мне его товарищ рассказал.
Оказывается, его посадили вскоре после того, как он появился дома. Посадили за то, что в одном письме своем к родным он написал, что в Москве, как это ни странно, есть не только большие, многоэтажные дома, но и совсем маленькие, как в какой- нибудь деревне…
Я понимаю, что теперь в это уже трудно поверить.
Его потом освободили, но было уже поздно. В заключении — там, в тюрьме, он заболел туберкулезом и скоро умер.
Закрытая книга
Ныло по, насколько помню, в 1956 году, работал я тогда и журнале «Дружба народов», заведовал там отделом поэзии. Был по каким-то делам вызван, а может быть, и сам зашел к тогдашнему редактору журнала Борису Андреевичу Лавреневу, в его кабинет, и увидел на столе у него рукопись, которая одним споим видом обратила на себя мое внимание. Края у нее, у этой рукописи, были обрезаны так, как иногда обрезают фотографии — зубчиками. Я спросил у Лавренева, что это за рукопись, почему она так странно обрезана. Он сказал, что это — «Доктор Живаго». Мне уже кое-что говорило это название, как и многим, я думаю, потому что еще за несколько лет до того в журнале «Знамя» печатались подборки стихов, так и названные: «Из романа «Доктор Живаго». Теперь на столе у редактора был сам роман, законченный, переданный «Новому миру», одним из членов редколлегии которого был Борис Лавренев. Я спросил у него, помню, что за роман, хорошим, плохой, какое у него, у Лавренева, впечатление? Он сказал, что есть, мол, великолепные страницы, но много и таких, которые производят впечатление как бы начерно написанных… Но, конечно, думает он, журнал будет печатать этот роман, готовить его. Он, Лавренев, должен будет писать рецензию. На этом и закончился, насколько я теперь помню, наш разговор.
Такова была моя первая встреча с «Доктором Живаго».
Через много лет, когда давно уже отшумела история с романом Пастернака и самого Пастернака уже не было в живых, я думаю, осенью 1962 года, я, неожиданно для себя, попал в дом к Пастернаку, к нему на дачу. Меня привел туда Лев Озеров, работавший в те дни с его архивом для готовившегося к изданию тома избранных стихов. Мы с Озеровым были в старой дружбе, он, спасибо ему, писал даже когда- то предисловие к моей книжке и теперь позвал меня с собой, зная, что мне это будет интересно. Мы свернули на улицу, называемую улицей Павленко, и скоро оказались возле распахнутых настежь ворот и по узкой, заросшей травой, давно не асфальтированной дорожке, через пустующий теперь уже от картофеля участок прошли к дому. Сразу, как только мы ступили за калитку, мне вспомнилось:
Черен лес за этим старым домом,
Перед домом — нивы да овсы…
За дорогой всего чаще росла кукуруза. А лес этот и впрямь был такой, как описан, черный, опаленный жарой, густой и черный, без какой-либо тени.
Внизу, в передней, нас встретил брат, очень похожий, как мне показалось, по моложе. Какая-то женщина молча пропустила нас впереди себя и повела наверх, в кабинет, который, как я и думал, был расположен в полукруглой, остекленной, далеко видной с дороги веранде.
Из окна было видно все то же пустующее картофелище, редкий старый забор, а за забором еще одно поле, большое, не помню, чем на этот раз засеянное. А дальше, за этим полем, за речкой, которой отсюда не было видно, была его могила, там, возле трех сосен. Могила тоже не была видна, но три сосны были видны хорошо.
Эго — недалеко от дороги. Каждый раз, когда идешь с поезда, кто-нибудь стоит над тем холмиком… Над покатой поляной, склоненной к речке, над маковкой церкви гнало облако.
Все это много раз описано им, я все узнавал — и то, что открывалось из окна, и сам этот кабинет.
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою,
От занавеси до дивана…
Большой стол, два-три шкафа и еще несколько открытых полок. Стены — голые. Только в простенке, возле двери, маленькая, вырезанная, должно быть, откуда-то из книги, гравюра. Небольшой готический городок в долине, в глубокой впадине. Я только много позже, попав в этот город, узнал его, вспомнил эту гравюру, висевшую на стене… Это была Иена, старая Иена, без нынешних заводов на окраине ее. А тогда, когда я был здесь, я не знал, что это за город и почему висит здесь эта гравюра… Но главным в кабинете был все-таки стол — простой, некрашеный, стоящий справа от окна. В столе словари, множество простых, остро отточенных в запас прекрасных карандашей в железной коробке, резинка и карандаши. Да еще маленький перочинный ножик, очень сильно сточенный. Вот, пожалуй, и все…
На столе лежала книга. Это был толстый предвоенный том ого избранных стихотворений. Такой толстой книги у него потом уже никогда не выходило. Книга была открыта на стихотворении, в котором почти каждая строка была исправлена пером или этим остро отточенным карандашом, четким, одинаково мелким почерком. Так вот поверх строки в большом этом томе чуть ли не каждое его стихотворение было исправлено его рукой.
Мы были одни в этом молчаливом доме. Мы ходили тихо, тихо двигались. Можно было подумать, что мы пробрались сюда тайно.
Меня влекли к себе полки, несколько полок, стоящих у стены. Тут были его книги, вышедшие во всем мире. Для начала я взял одну из них, самую большую, и подошел с нею к окну. Я стал ее листать, рассматривать рисунки, картинки… То, что я увидел, было неожиданно для меня. Я увидел Сибирь, узнал знакомые мне снега, все было знакомое, памятное, не однажды мной виденное. Запряженную в сани большую лошадь у крыльца, звездное холодное небо над головой, над полями, и снега, снега. И все было крупно, преувеличенно крупно. Все было знакомо, но как будто на другой земле. Как интересно мне стало и как страшно!
Я вдруг поймал себя на мысли о том, что, стоя тут, посреди России самой, в этом кабинете, с этой книгой в руках, я смотрю только рисунки и не могу ни слова понять. Что я, как неграмотный или как ребенок, рассматриваю только эти космические рисунки и не понимаю ни слова в книге, написанной по- русски.
За окнами сгущал ист. сумерки, когда мы уходили…
В дни, когда умер маршал Жуков…
В дни, когда умер маршал Жуков, мне позвонили из одной редакции, из газеты позвонили, и попросили меня написать о маршале, поделиться с читателями моими воспоминаниями о нём. И когда моя жени, мои я в это время не было дома, но она мне потом об этом рассказывала, спросила удивленно, почему именно мне заказывается такая статья, ей объяснили: «Но ведь они вместе там были в Берлине!»