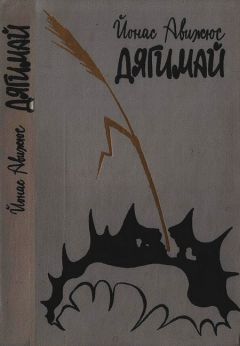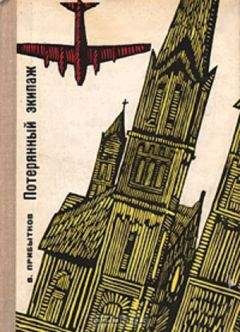Йонас Авижюс - Потерянный кров
Гедиминас глянул на Адомаса.
— За пятнадцать месяцев ты, говоря большевистским стилем, преуспел в самокритике, — удивился он.
— Зрелость, — печально улыбнулся Адомас. — Ты в чем-то был прав: нельзя кидаться очертя голову в кипяток. А вот об остальном можно поспорить. Кто с кем — это мы еще увидим. И вообще нам надо кое-что выяснить, Гедиминас. Я хотел к тебе зайти, да сам знаешь… Незачем искать камень за пазухой у друга. Мы живем в такое время… вдруг придется идти плечом к плечу… — Адомас огляделся. За этим концом стола, кроме них никого уже не осталось. Он пододвинулся вплотную к Гедиминасу и, положив руку на спинку его стула, негромко пересказал свою беседу с Саргунасом. — Если уж в верхах царят такие настроения… — со значением кончил он.
Гедиминас посидел минутку с застывшим лицом. Длинные, откинутые назад волосы прядями падали на уши и лоб (он часто забывал про расческу); от него веяло каким-то неуловимым запахом — канцелярией, березами, давно не надеванной одеждой — этот запах появился после того, как он бросил курить.
— Настроения людей, виноватых перед своей нацией, — наконец сказал он. — Как кошки — нагадили и тут же спешат закопать. Эти господа надеются откупиться будущим. И, конечно, будут делать это не своими руками. Я не хочу отскребать чужую грязь!
Адомас снял руку со спинки стула, словно обжегшись.
— Судьба нации для него чужая! — охнул он вполголоса. В ушах послышался знакомый звон: надо встать и уйти, а то заедет другу в морду.
— Твой тип из Каунаса со своим Кубилюнасом еще не нация.
— Так и говори: боюсь! Возиться с детьми в школе и сочинять стишки легче, чем рисковать головой.
— В моих идеях нет идеологии, из-за них головы не летят. — Гедиминас колюче рассмеялся. — Вы думаете, надо вырезать кое-кого, чтоб высвободить место для себя, а я думаю: пускай каждый живет, как умеет, земли и неба хватит всем. Были таутининки — режь одних, пришли красные — других, немцы — прочь с дороги, кто не немец! Придет еще одна власть, скажем, ваша, — опять полетят головы, опять все будут совать в тюрьмы, трудовые лагеря. Почему я должен содействовать бессмысленной рубке леса? Я сам себе дерево, сам себе лесник.
В соседней комнате Ропп затянул песню немецких летчиков. Адомасу пришлось повысить голос, чтобы Гедиминас расслышал.
— Конечно, удобней стоять в стороне и смотреть, как у других головы летят с плеч! Поэт! Он, видите ли, выше любых идеалов. Гуманист! А я тебе скажу, лапочка, что твой гуманизм гроша ломаного не стоит. Потуги импотента, вот и все. Только и умеешь, что стонать и плакать. Немцы такие, немцы сякие, столько гибнет невинных людей… Так ли уж они невинны, это еще вопрос. Но откровенно скажу тебе, лапочка, я лучше понимаю русских, которые убегают в леса, присоединяются к бандитам и бьют немцев, чем тебя… Черт подери, помолчал бы, не судил других! Не варишь каши, так и не советуй, сколько класть соли.
Гедиминас слушал его с иронической ухмылкой, крутя пальцами рюмку. Но постепенно улыбка стала тускнеть, глаза помрачнели; было видно, что Гедиминас растерян.
— Не мною создан такой мир, и не мне за него отвечать, — нетвердо сказал он.
— Еще один виновник — господь бог! — Адомас презрительно расхохотался.
— Нельзя обвинять того, кого нет.
— Да, во всем мире ты один…
— Нет, есть еще водочка. — Гедиминас наполнил рюмки, и оба выпили до дна. — Немцы любят равновесие. Ты не чувствуешь, что половина этой мутной жидкости идет в верхнюю, а ровно половина — в нижнюю часть тела? Я, пожалуй, склонен осмотреть запасные апартаменты господ Баерчюсов в саду.
— Хоть в этом наши взгляды совпадают, — насмешливо заметил Адомас.
Они тяжело встали, нетвердо ступая, вышли во двор. Над наружной дверью горела лампочка, вырывая из темноты часть сада, стену нужника и две легковушки; поодаль, привалившись к забору, подремывал на посту эсэсовец, но они не заметили его. Над нужником тоже светилась неяркая лампочка. Город спал в черном океане, и в мире ничего не оставалось, только эта кромешная пустота, а в ней ноевым ковчегом болтался осколок уцелевшего острова, загроможденный заборами, машинами и людьми, которые набились в единственный дом, торопясь все сожрать, вылакать и всласть нагуляться, — ведь завтра все пойдет прахом.
— Что-то лень нести за калитку, — сказал Гедиминас. — Как думаешь, которая тут машина нашего почтенного почтмейстера? Надо бы обмочить колеса, чтоб спицы сидели крепче.
Адомас тихонько рассмеялся.
— Мы как следует накачались, лапочка.
— От свежего воздуха развезло. — Гедиминас зашел за первую машину, Адомас потопал за ним.
Как я ехал через лес зеленый,
Обломал я веточку рябины…
— дурными голосами вопил один борт ноева ковчега; из всех окон бил свет.
— Литовцы взяли верх, — констатировал Адомас, с трудом одолев последнюю пуговицу.
— Как и полагается в такой исторический момент. — Гедиминас хихикнул. — Все, что мы можем себе позволить в борьбе за независимость. Подмоченный протест во имя единства нации. Но, я вижу, воин из тебя и тут неважный. Ты выше, выше поднимай. Ни одной пули мимо! Целься в дверку. Высококачественная русская сталь. Звенит, как скрипка Страдивариуса.
— Кто-то идет… — прошептал Адомас, услышав подозрительный шорох.
— Это шаги истории, — выдавил Гедиминас. — Твой генерал Кубилюнас…
Он не договорил. Громыхнул, задев за что-то, автомат, и тут же раздался приказ:
— Hände hoch! [20]
Они хотели обернуться, подумали — кто-то решил подшутить, — но снова прозвучал грозный окрик.
— Это я, Вайнорас, начальник полиции! — на ломаном немецком языке пролепетал Адомас, воздевая руки.
И тут же почувствовал, как кто-то резким движением вырвал у него из кобуры револьвер. Оглушенный знакомым звоном в ушах, он обернулся — и наткнулся грудью на дуло автомата. Поодаль стоял второй эсэсовец с полированным лицом манекена и тоже держал оружие наизготовку.
— Отдай револьвер! — в ярости крикнул Адомас. — Не видите, кто я?!
Хлопнул кулаком себя по погону, опустил было вторую руку, но тут же пришлось поднять обе — немцы заорали и загремели затворами.
— Будьте корректны, господа, позвольте оправить брюки, — вдруг протрезвев, попросил Гедиминас.
— Отдайте оружие, черт возьми! Я не какой-нибудь бандит, я свой… Я начальник полиции. Отдайте, черт возьми, оружие! — выкрикивал Адомас, качаясь из стороны в сторону, словно его подвесили за руки на невидимой веревке.
То ли господина коменданта с почтмейстером потянуло на свежий воздух, то ли они расслышали шум, но неожиданно во дворе появились оба немца. Они с самыми серьезными лицами выслушали рапорт часового, а пока суть да дело, Гедиминасу с Адомасом пришлось постоять с поднятыми руками в ослепительном свете карманных фонариков. Потом появился начальник гестапо штурмфюрер Дангель и другой гость, офицер из комендатуры. Уже четыре пары обжигающих издевкой глаз ползали по их телу, ощупывая каждую складку одежды, каждый неприкрытый кусок тела. Двор заполнился гостями («…Meine Damen und Herren, bitte alle in den Hof… Ein seltenes Spektakl… Ihr werdet nicht bereuren… Kommt alle sehneller in den Hof…»)[21], и они, хотя были пьяны, поняли, что необязательно срывать с человека одежду, чтоб раздеть его донага.
VIIСтрах подумать, что вчера натворил! Счастливы те, кто после пьянки ничего не помнят. Надо было уйти вместе с Гедиминасом сразу после этих глупостей во дворе. Пускай все видят, что он чихал на господ немцев, он не какая-нибудь заячья душа, чтоб позволить над собой издеваться! Недостало решимости, страх, как часто бывало с ним, вытеснил чувство собственного достоинства. Он лопался от злости, а все-таки чокался с немцами, отвечая улыбкой на улыбки; дружно хохотал вместе со всеми, хоть и скрипел зубами от ярости. «Начальника полиция разоружили! Ха-ха-ха!» Этот проклятый хохот собравшейся во двор публики гремел у него в ушах, и он пил рюмку за рюмкой, чтоб заставить его утихнуть. «У каждого честного патриота сейчас два лица», — сверлили мозг слова Саргунаса. Он то и дело чувствовал, что его второе лицо опять проступает все более четко, приближаясь на опасное расстояние. Тогда, собрав последние силы, он отталкивал своего двойника, и тот на миг исчезал. А потом снова вылезал из темноты, мельтешил перед глазами, и снова он видел себя в свете фонариков, с поднятыми руками. «Чего вы хотите, черт возьми, своих не узнаете? Господин комендант… Herr Kommandant…» Опустил руки, шагнул вперед. «Halt! Halt! Halt!» [22] Два сзади, одно спереди. И он, хоть и ослеп от света ярких фонариков, разглядел (нет, скорей нюхом учуял) нацеленное прямо в грудь дуло пистолета. Да, они были в хорошем расположении духа, господа немцы, их спектакль нуждался в зрителях… Потом, когда они сели за стол, продолжая хохотать над случившимся, господин Ропп сказал: «Русских за подобные шутки мы бы расстреляли…» Великодушно, с доброй улыбкой (правда, в глазах при этом мелькнула угроза) были сказаны эти слова, и он чокнулся со своим благодетелем и выпил за то, что он, Адомас, все-таки выше русских. «Господин Вайнорас, когда мы поднимали тосты за фюрера и родину, вы смотрели в свою тарелку, искали, чем бы закусить», — заметил начальник гестапо, и Адомас предложил тост за «извечного друга литовского народа великую Германию» и записал на свой счет еще одну рюмочку. «Все они свиньи, большевики. Может ли свинья понять, что такое родина?» — добавил господин почтмейстер, и ему снова пришлось поднять рюмку («За флаг третьего рейха над цитаделью большевиков — Кремлем!»), чтоб доказать, что он отнюдь не свинья и в его крови нет бацилл большевизма. Да, именно с этой рюмки колесо и пошло крутиться в обратную сторону. Обливаясь холодным потом от страха, он понял, что второе лицо снова лезет наружу и у него нет сил нокаутировать его. Попытался встать, чтоб уйти, но голова была пустая, легкая, как одуванчик, а зад налился свинцом. «Что вы смыслите в литовской нации, господин… почтмейстер?.. Понимали ли вы ее и старались ли понять? Вам только подавай гусей, сала да яиц („Liebe Mutter, Eier, Butter…“)[23]. Клайпеду подавай… Господин комендант, лапочка, скажешь, неправильно говорю? Единственный порт отобрали. Окно в мо-о-оре… Но мы все равно с вами, господин Дангель. Слу-ужим… Верой и правдой. Фюреру, Германии, а для своих — что останется. Для своих — крохи, господин комендант… Смейтесь, смейтесь над своим слугой, но однажды и слуга может сбросить ливрею. Очень даже может, господин почтмейстер… Думаешь, мне эти погоны дороги, мне не на что справить себе приличный костюм, лапочка? Наплевать мне на форму начальника полиции, господа!.. Завтра подаю в отставку и прошу желающих на мое место. Хоть вы занимайте, господин почтмейстер…» Выпалил одним духом, чувствуя, как в душе сто чертей пляшут от наслаждения. («На тебе, господин комендант! На тебе, Дангель! Жри и ты, откормленная свинья почтмейстер! Подавитесь святой правдой…») Неизвестно, чего бы еще наговорил, но почтмейстер вдруг завизжал, как поросенок под ножом, и двинул Адомаса кулаком в челюсть. Нет, он не дал сдачи. Слава богу, что не дал. Только вскочил (свинец вдруг хлынул в ноги) и тут же, наткнувшись на страшный взгляд коменданта, шмякнулся обратно на стул; страшные, неумолимые глаза пронизывали его насквозь, как незадолго до того дуло пистолета во дворе. Какое-то важное колесико вдруг вскочило на свое место от удара почтмейстера, и весь механизм заработал, как раньше. Баерчюс скулил, дергался, как паралитик (казалось, его плешивая голова слетит с петушиной шеи): «Домой, Вайнорас, сейчас же домой! У меня нет места провокаторам!» Мог и не выгонять. Сам ушел, поддерживаемый Милдой, на ходу его заносило. («Какой черт еще толкается…») Тускло освещенные улицы были пустынны и мрачны. В тишине назойливо громко цокали туфельки Милды, а ему казалось, что кто-то крадется за ними, прицелившись в спину из черного пистолета. Вдруг он испугался этой темноты с точками фонарей, призрачных силуэтов домов и заплакал, как ребенок, которого увели в лес и там оставили. Милда успокаивала его, но сама тоже плакала. И впервые после долгих ночей супружеская постель снова стала им узка, и он радовался, что в застывшую было плоть их любви возвращается душа.