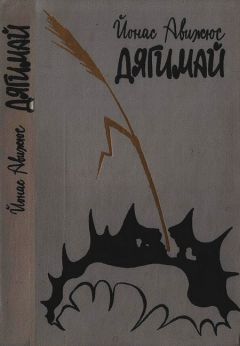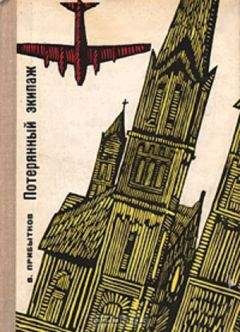Йонас Авижюс - Потерянный кров
— Цветы! — выбежала Юсте на крыльцо.
— Отдайте своим коровам, мама.
— Вздурился, боже милосердный!
Адомас шлепнулся на сиденье, дернул вожжи, и застоявшийся гнедой вихрем вынес коляску из ворот.
«К начальнику почты! К своим, к своим…» Хлестнул лошадь кнутом, вкладывая в этот удар всю злобу, и помчался по деревенской улице, утонув в вихрящемся облаке пыли. Дворы летели мимо, — кудахтали куры, пестрели вянущие осенние цветы, дышали дымом трубы. Сушились на изгородях глиняные горшки, белели выцветшие холстинки и пеленки, поблескивали прислоненные к заборам велосипеды, то тут, то там стояли мужики, лениво поднимавшие руки к козырьку фуражки, посылавшие запоздалую улыбку. Деревня принадлежала ему. Он мог повернуть гнедого в первый попавшийся двор, и его любезно пригласили бы в избу, усадили за стол. Милости просим, не побрезгуйте, господин начальник… Но в каждом дворе был свой отец, который сидел за гумном на вросшем в траву трухлявом катке и, согнувшись в три погибели, чинил недоуздки. И Адомас поднимал кнут («Без славы не опусти», — сказал бы Саргунас), понукал лошадей, чтоб лоскорей вырваться из деревни, которую когда-то исходил из конца в конец с песнями и девками. Короткой и тесной казалась ему тогда деревня…
«К своим, к своим…»
Солнце по-вечернему низкое, летело за ветвями деревьев, словно олимпийский факел в руках бегуна. И он снова вспомнил, может, в сотый раз после того случая, полную луну, застрявшую в деревьях отцовского хутора, и такие же, как сейчас, длинные тени, которые призрачными крыльями хлестали по безмолвной земле. Колеса грохотали тогда, как и сейчас, только другие, и лошадь была другая, и повозка катила не на пирушку к господину начальнику почты, а на похороны.
«…А тот не был человеком?..»
VОн догнал телегу, которая уже останавливалась, и огрел клячу палкой, впопыхах выломанной в ивняке. Телега, подскакивая, слетела по проселку с горки. И тогда он потерял голову и бросился бежать. Где-то в кустах у озера был его гнедой, но теперь он не думал ни о своей лошади, ни о том, что до этого всю дорогу заботило его: как, обогнув деревню, незамеченным вернуться обратно домой. Его подстегивал страх. Он не понимал, откуда этот панический страх, — ведь дело-то сделано? — но глаза все время видели синеватое пятно лица с губами, искривленными насмешкой. И два колодца, полные лунного света, — глубоко запавшие глаза, проклинавшие его. Он бежал, убегал от этого безмолвного, но проникающего в душу проклятия. Потом, когда уже выбрался из деревни, ему стало стыдно за свою трусость. «Слава богу, лапочка, все обошлось. Всех избавил от забот», — цинично хохотнул он. Думал смехом перечеркнуть ту ночь, но она осталась. Достаточно было незначительной детали — увидеть сивую клячу, услышать скрип колес, — и в воображении снова возникало синеватое пятно лица, буравили насквозь страшные глаза летчика. Адомас любил все рассказывать Милде — он ведь вообще душа нараспашку, — но этот случай скрыл. Сам удивлялся: ведь не убил, только спас родню от беды. Да этот летчик и не первый: там у Чертова поворота, кажется, троих уложил — и ничего…
А мог ведь не стрелять. До самой последней секунды не знал, что выстрелит. Они с Бугянисом лежали за кустом можжевельника и с завистью смотрели на дорогу, по которой за какие-нибудь полчаса можно было добраться до дома и досыта поесть. Кто знает, когда им суждено постучаться в дверь родной избы. А если и постучишься, то кто тебе откроет? Может, увидишь давно остывшую печь, пыль на столе, услышишь запах плесени. И в этом будет только его вина. За то, что был шаулисом, да не рядовым, что бегал на учениях с винтовкой, что распевал национальный гимн. И, как всегда в сильном раздражении, его охватил приступ ярости. Розовый туман на мгновение залил дорогу, которая здесь круто спускалась вниз и, сделав внизу поворот почти на девяносто градусов, уходила в лес. «Пойти бы туда, броситься с обрыва вниз головой — и баста», — подумал Адомас. Но кого напугаешь этим? Не придется бродить по лесу, как бездомному псу, и на том спасибо.
— Машина… — шепнул Бугянис.
К спуску приближался военный грузовик. Лучи заходящего солнца тусклым багрянцем окрасили ветровое стекло, и Адомас увидел синюю фуражку с красным околышем. В кузове сидели несколько человек. Все в таких же фуражках. Эти фуражки он видел несколько дней назад на дороге в поместье Гульбинаса, когда, пригнувшись, удирал вдоль ржаного поля из дому, держа в одной руке мешочек с продуктами, а другой сжимая в кармане пистолет. Вот когда он пригодился!
Он вытащил из кармана оружие и прицелился в ветровое стекло. Пелена розовой мглы спала с глаз, все вокруг стало прозрачным и четким.
— Ты с ума!.. Пропадем… — залепетал Бугянис.
Подумал ли он о том, что может не попасть в водителя и тогда эти выстрелы будут последними в его жизни? Куда там! Безнадежная ярость преследуемого зверя замутила рассудок, выключив все рычаги инстинкта самосохранения, — в таком состоянии человек совершает безумный или героический поступок.
Потом он узнал, что неуправляемая машина врезалась в дерево и опрокинулась, подмяв под себя трех человек…
— Литва таких людей не забудет, господин Вайнорас! — сказал начальник уезда, вызвав его, когда еще дымились развалины. — Возьмешь под начало полицию волости.
Адомас вытянулся в струнку («На благо родины!»). И ничего, никаких угрызений совести. Словно эти трое были мухами, — раздавишь, и в комнате станет чище. «Враг. Не я его, так он меня». Но и тот, умирающий, был врагом. Как и безусый солдатик, которого они поймали во ржи и заперли в овине.
Не стоит ради одного часового держать. Пристрелить! — решил Бугянис, и большинство одобрило его.
Солдатику было не больше восемнадцати. Светлая, стриженная под машинку голова, круглые щечки, чистые глаза обиженного младенца. Ребенок… Он выпустил всю обойму и поднял руки: больше у него не было патронов.
Безоружных мы не убиваем, лапочка, — сказал Адомас, и все повиновались, потому что ни у кого из них на счету не было трех раздавленных мух.
Часа через два появились разведывательные немецкие части.
— Es gibt einen Gefangenen[17],— сказал Адомас двум мотоциклистам, влетевшим во двор.
Он отвел их к овину, а так как немцы не решались заходить туда, сам открыл дверь и приказал пленному выйти.
— Los![18] — махнул один из солдат Адомасу автоматом, чтоб тот отошел.
Глаза солдатика расширились от ужаса, он разинул было рот, но крик так и не успел вырваться из детски узкой груди: прострекотала очередь, и он свалился на пороге.
— Свиньи! — выругался Адомас.
— В плен они берут только взводами, — заметил кто-то из дружков.
— Им некогда цацкаться, — сказал Бугянис.
— Все равно свиньи, — отплевывался Адомас, подавленный и разочарованный первой встречей с освободителями.
VIПир у начальника почты Анзельмаса Баерчюса в самом разгаре. Празднуют серебряную свадьбу, — ровно двадцать пять лет назад молодой провинциальный чиновник вскружил голову зрелой дочке мясника и поклялся перед алтарем в вечной верности. По этому случаю каждый старается раскопать собственный юбилей. Комендант Ропп рассказывает, как двадцать пять лет назад примерно в то же время жена родила ему первого сына; бургомистр Диржис впервые несчастливо влюбился, а Шаркус, волостной старшина, отпраздновал свой десятый год. Среди множества гостей нашлось даже несколько родившихся именно двадцать пять лет назад. Их приветствуют аплодисментами и дружными «ура», за них поднимают бокалы, пьют за их здоровье. Адомаса тоже присоединяют к ним (шутка развеселившейся Милды), хотя до его двадцатипятилетия не хватает девяти месяцев. Шутка сказать — девять месяцев! Если вам угодно, без этого подготовительного периода ни один из нас не появился бы на свет и господа Баерчюсы тоже не сидели бы в оплетенных цветами креслах серебряной свадьбы. За инкубационный период, дамы и джентльмены! Остроумный тост грешным ангелом парит над гудящими столами. Дамы-скромницы изо всех сил стараются зардеться, упорно не поднимают глаз. (Господа, такие речи при дамах…) Обе девицы не первой молодости, между которыми хозяева втиснули Адомаса, хихикают в кулачок, глазами и бедрами атакуя господина начальника полиции. Милда бросает через стол взгляды провинившейся шалуньи, но не просит прощения, а, пожалуй, посмеивается. Рядом с ней Гедиминас. Немного навеселе, в приподнятом настроении. Адомас исподлобья, подозрительно поглядывает на них. Она не должна была приходить сюда одна. А господин учитель истории тоже… Просто в голове не укладывается: этот праведник — и вдруг в таком обществе! Баерчюсы, правда, питают слабость к сословию просветителей — здесь директор гимназии с инспектором и еще несколько учителей; приглашали, ясное дело, но как наш Гедиминас сел не в свои сани?