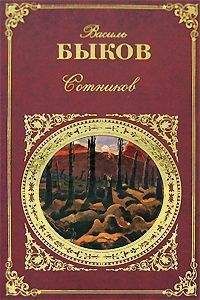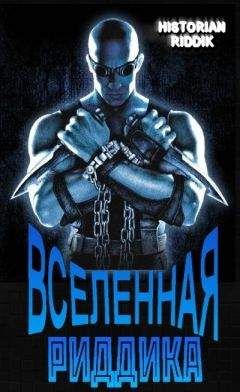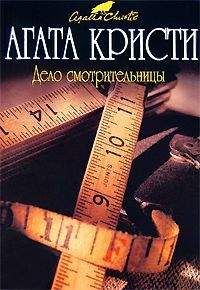Иван Свистунов - Все равно будет май
Еще больше обиделся Алексей. Уехал не попрощавшись, как чужой. Писал совсем редко, раз в месяц. В одном из последних писем сообщил, что он и Аза университет окончили, получили назначение в Смоленск, где будут работать преподавателями.
Пришла зима, суровая, с невиданными морозами. Померзли фруктовые деревья, на лету коченели птицы. После рождества пошли метели, снега навалило чуть ли не под стреху.
Алексей не приехал ни на Новый год, ни на пасху.
— Все она виновата, змея подколодная, — жаловалась Анна Ивановна соседкам. — Черная, худющая, ни рожи ни кожи. А что касается женских мест, так у нее и спереди и сзади доска доской. Посмотреть не на что. И характер скрытный. Она и сына против нас восстановила.
2Когда в июньское светлое, ничего о близкой беде не предвещавшее воскресенье нежданно ударила война, когда за несколько дней из Троицкого увезли на фронт всех молодых ребят и мужиков, когда дурными голосами завыли новоиспеченные солдатки, предчувствуя свою вековечную вдовью долю с воловьим трудом днем и холодной тоской одиноких ночей, когда затрепыхал над правлением колхоза кумач «Все для фронта! Все для победы!», Анна Ивановна Хворостова не находила себе места. Как Алешенька? Конечно, призвали в армию, послали на фронт. Где он воюет? Жив ли?
А война шла. По селу, как змеи в траве, ползли жалящие слухи: «Немец взял Барановичи», «Немец взял Минск», «Немец идет на Смоленск…».
А в Смоленске семья Алексея. Что-то будет!
И вот однажды утром под самыми окнами пронзительно завизжали автомобильные тормоза. Не успел Федор Кузьмич застегнуть ворот рубахи, как в избу вошел Алексей. В военном: гимнастерка, ремень, галифе, сапоги. Из-под пилотки, надетой набекрень, ломаная струйка пота. За Алексеем робко переступила порог Аза, ведя за руку мальчика.
Сын показался матери худым и выросшим, — видно, таким делала его военная форма. Без поцелуев и объятий, прямо с порога проговорил запыхавшись:
— Папа и мама! Привез жену и сына. Пусть пока у вас побудут. Хорошо? А мне сейчас уезжать надо!
— Как сейчас! — похолодела Анна Ивановна. — Как же так! Хоть денек погости. Я сейчас тесто поставлю, пирожков испеку.
— Не могу, мама, надо ехать, — непривычно ласково и даже виновато проговорил Алексей и обнял мать за плечи. — Надо!
Федор Кузьмич, растерянный и обмякший, засуетился:
— Мать, хоть кусок сала достань.
— Ничего мне не надо, все есть! — И проговорил просительно: — Жену и сына поберегите. Прошу!
— Само собой, — буркнул Федор Кузьмич и отвернулся: стареть стал кузнец.
Алексей поднял на руки сынишку, поцеловал в лоб, молча обнял жену. Аза не плакала, только тоскливыми глазами смотрела на мужа.
Наспех поцеловав отца и мать, Алексей выбежал за ворота, где нетерпеливо сигналила машина. Вскочил в кабину, и грузовик рванулся по улице, провожаемый сумрачными взглядами соседок: все знали, куда спешит сын кузнеца Федора Хворостова.
Анна Ивановна стояла на крыльце, держась за косяк, и смотрела, как подпрыгивает и пылит на деревенской улице уезжающая машина. Может быть, еще откроется дверца кабины и выглянет Алешенька. Но дверца не открылась.
Когда Анна Ивановна вошла в избу, то не узнала Азу. И без того смуглое худое ее лицо теперь было мертвым. Провалившиеся глаза смотрели одичало, отчужденно. Мальчик жался к матери и всхлипывал. Анна Ивановна испугалась:
— Присядь, Азочка! Водички, может, тебе дать?
Аза опустилась на табуретку. Непонимающими глазами смотрела на деревянный стол, накрытый домотканой скатертью, древний черный шкафчик для посуды, полотенце над темной иконой богородицы в углу. Увидела в простенке в раме фотографии: Алексей с пионерским галстуком на шее, Алексей на конных граблях, Алексей на крыльце с книгой в руках…
Упала головой на край стола и заплакала впервые за все страшные дни войны, когда покачнулся и рухнул светлый мир ее жизни с Алексеем и Федюшкой. Аза не голосила, не причитала, не рвала волосы на голове, как водится в Троицком. Худенькое слабое ее тело содрогалось, выталкивая из горла хриплые мучительные стоны.
Заплакал и Федюшка. Он плакал потому, что плакала мама, потому что уехал папа, потому что он не в привычной своей городской квартире, где игрушки, книжки и кошка Шурка, а в чужом доме, где живут старые, некрасивые и недобрые люди, о которых папа сказал, что это бабушка и дедушка. Он не хочет такой бабушки! Во всех сказках говорится, что бабушки добрые и ласковые, а это чужая, злая старуха. Она, скорее, похожа на бабу-ягу. И он не хочет здесь жить. От этих мыслей Федюшка плакал еще безутешней.
Федор Кузьмич, не имевший понятия, как надо ухаживать за малыми ребятишками, бестолково ходил по избе. В душе ругал сына, свалившего на их голову такую обузу. «Ишь, спешил как! Не присел, шапки в родной избе не снял. Пустили немца вон аж куда, а теперь разбегались. Мы тоже с немцем воевали, да так не бегали. Ходу ему по нашей земле не давали. А то… вояки!»
Анна Ивановна села рядом с невесткой, обняла ее худые вздрагивающие плечи и тоже заплакала. Она плакала об Алеше, что уехал, не сказав двух слов, не выпив стакана молока, уехал на фронт. Ей было жаль, пусть нелюбимую, невестку. Все-таки жена Алешеньки. В ее душе рождалась если не любовь, то жалость к маленькому Федюшке, который плачет так горько.
Федор Кузьмич боялся женских слез, но еще больше боялся слез детских. Может быть, потому, что единственный сын Алексей рос без него и Федор Кузьмич не видел его детских слез, не привык к ним. Он хотел прикрикнуть на жену, которая скорбно и обреченно плакала, пригрозить внучонку, но только махнул рукой и ушел в кузницу: пусть бабы сами разбираются.
Прошло не много дней, и Федюшка перестал дичиться. Теперь его уже не пугали кудлатые брови деда и темные, словно коричневой краской выкрашенные, руки бабы. Безошибочным чутьем он понял, что деревенские дед и баба по-своему любят его и от них ему не грозит никакая опасность. Понравилось играть с Серко, бегать с ним к деду на кузницу, где жарко дышат меха, оглушительно стучат молоты и белое железо сердито брызжет рождественскими елочными искрами.
Только потемневшее лицо матери со скорбными глазами пугало Федюшку. Он прижимался к ней и успокаивал:
— Не плачь, мама. Скоро папа приедет, и мы вернемся к себе домой. Правда?
Аза пыталась помогать свекрови по хозяйству, но почти ничего не умела делать: ни выдоить корову, ни поставить опару для теста. Это смущало ее.
Хотя ни Федор Кузьмич, ни Анна Ивановна ни разу ни словом, ни взглядом не выразили ей своего осуждения или недовольства, она чувствовала, что не по сердцу родителям мужа. И то, что она вынуждена жить в их доме, есть их хлеб, быть всем обязанной им, мучило ее.
Газеты писали и радио твердило, что оборонительные бои с превосходящими силами противника идут на минском и борисовском направлениях, но слухи, — что твое радио! — распространявшиеся с необыкновенной быстротой, утверждали: немцы совсем близко. Из районного центра уже эвакуировалось начальство, забрав бумаги и семьи, на железнодорожной станции взорваны паровозное депо и элеватор. Ходивший в сельсовет Федор Кузьмич вернулся мрачный, запыхавшийся. Взглянув на мужа, Анна Ивановна поняла: беда!
— Собирайся, Аза, уезжать надо! — виновато распорядился Федор Кузьмич. — Солодов обещал в свою машину посадить, как семью командира Красной Армии. На Мичуринск подаются.
Аза и Анна Ивановна, ни о чем не расспрашивая, заметались по избе.
— Мне тоже, мать, приготовь, — хмуро добавил Федор Кузьмич.
— Разве и ты? — Анна Ивановна прижала руки к груди, чтобы не закричать.
— Хоть до Мичуринска провожу, чтоб спокойней было. А то Алексей спросит… — и не договорил. Один раз попросил сын: «Поберегите семью!» А как тут побережешь?
Страшно отпускать мужа, внука, невестку в такое время, в неизвестный путь, но Анна Ивановна понимала: ехать надо! Не стала спорить. Молча собрала белье, хлеб, сало. Только слезы сами собой текли по лицу.
Уже были связаны узлы с самым необходимым, уже на Федюшку надели курточку и новенькие ботинки, когда недалеко, за Ивановскими выселками, раздались частые тяжелые удары, словно били по гигантской наковальне. На паровой мельнице завыл гудок и резко, будто кляп сунули в горло, оборвался. Федор Кузьмич выскочил из избы и тут же прижался к сенцам. По пустой деревенской улице — даже собаки и куры попрятались — промчались мотоциклисты. Запыленные машины тяжело шли по немощеной ухабистой дороге и выставленные впереди дула пулеметов просматривали улицу пустыми черными зрачками.
Федор Кузьмич вернулся в избу, задернул занавески на окнах, опустился на лавку. На лбу холодно засеребрился пот:
— Немцы!
Аза, прижав к себе сына, тряслась, как припадочная. Черные глаза на бескровном лице стали большими, дикими.