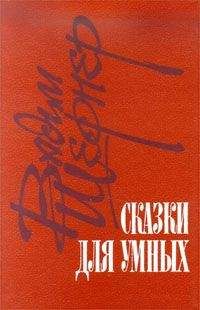Вадим Шефнер - Имя для птицы или Чаепитие на жёлтой веранде
Пьес ставилось несколько, но запомнил я лишь ту, в которой играла Леля и в которой «играл» я, – да и то не всю пьесу помню, а одну сценку. Смутно вспоминается, что в какой-то постановке ребята и воспитатели исполняли роли купцов, – может быть, Островского играли? И еще каких-то буржуев изображали, что-то современное. Странно: смотрел я игру глаз не отрывая, слушал во все уши, а все вылетело из памяти. Кажется, меня интересовал не смысл, не содержание представления, а просто механизм театрального действа; странным казалось, что вот этот человек ест со мной за одним столом, а поднявшись на сцену, он изображает уже не себя, а кого-то совсем другого, и говорит не как в жизни, а как в книжке. Я тогда уже любил чтение, и на страницах книжная речь казалась мне вполне естественной, но, когда книжные слова произносили живые люди, двигающиеся по сцене, я испытывал чувство неловкости и тайного стыда за актеров. Быть может, это и тем объяснялось, что в те годы разговорная речь взрослых резко отличалась от литературной, а речь детдомовцев – еще резче. Ранее я упоминал о жаргонных словечках и оборотах, которые были у нас в ходу; к этому надо добавить, что из своей разговорной речи ребята начисто выбросили многие вводные и «приблизительные» слова. Они презирали такие, к примеру, слова, как «мне кажется», «я думаю», «хочется», «наверное», «вероятно», «очевидно», «например»; новичков, произносивших их, дразнили, передразнивали – и те вскоре переставали их употреблять. Речь детдомовская была обнаженной, четкой, она никак не походила на книжную.
Если как актер я потерпел полное фиаско, то в роли чтеца выступил более успешно. Кроме театральных представлений, в Рамушеве устраивались и вечера самодеятельности, содержания довольно пестрого. Один такой вечер состоялся Первого мая; помню, в этот день на обед нам вместо черного хлеба выдали по пайке полубелого (пеклеванного) – роскошь дотоле неслыханная.
Первым номером, помнится, выступал детдомовец из старшей спальни, исполнивший куплеты против спекулянтов и мешочников; он сам себе аккомпанировал на деревянных ложках и приплясывал. Затем Вадим Афанасьевич прочел стихотворение о падении Бастилии, не знаю чье. За ним на сцену поднялась стриженная под ноль, как все младшие детдомовцы, девочка лет девяти и прочла стишки какой-то дореволюционной детской поэтессы, книжка которой имелась в нашей библиотеке и ходила по рукам. Последние строчки были такие:
Моя мамочка больна,
И, пока она не встанет,
Ее девочку не манит
Ни игрушек целый дом,
Ни гулянье босиком.
Потом на сцену вбежало сразу несколько детдомовок постарше, на головах у них белели марлевые шапочки. Девочки стали водить хоровод и запели:
Мы, легкие снежиночки,
Спустилися сюда,
Легки мы, как пушиночки,
Холодные всегда.
После этого они спели и сплясали еще что-то.
…Выступили две воспитательницы и один воспитатель, они читали такие стихи, в которых обязательно упоминались дети: «Бедный мальчик, весь в огне…», «Шел по улице малютка…» – и еще, и еще про детей. Я слушал вполуха, так как знал, что скоро мне самому выступать, и беспокоился за себя; мне казалось, что, если я «провалюсь», Леля никогда не простит мне этого, хотя отлично сознавал, что ей вообще плевать на меня с высокого дерева. И вот пробил мой час. Когда я поднялся на подмостки, то в первые мгновения совсем ополоумел от стыда и страха. В полумраке зала белели лица, они как бы слились в одно многоглазое лицо – и все глаза пялились на меня. Две керосиновые лампы, стоявшие справа и слева от меня на табуретах, казались мне ослепительными и словно просвечивали меня насквозь со всеми потрохами. Но вот я нащупал в памяти первую строку пушкинского «Анчара», дребезжащим голосом произнес имя поэта и название стихотворения – и прочел его до конца, прочел без чувства, автоматически, но и без запинки. «Анчар» я знал наизусть давно, а прочесть его на вечере велел мне Вадим Афанасьевич, сказав, что Пушкин написал его против царя. Затем, тоже без всякого выражения, я отбарабанил стихи Кольцова, из которых сейчас помню только такие строки:
Будь что будет – все равно,
На святое провиденье
Положился я давно.
Это стихотворение я выучил специально для вечера по настоянию матери; ей очень оно нравилось, мне же было непонятно. Когда я кончил свою декламацию, мне похлопали, но душевного подъема я не испытал; я чувствовал только облегчение оттого, что мука эта кончилась.
Леля выступала последней, ее оставили, так сказать, на сладкое. Странно, я не помню, что именно она читала, помню только – что-то длинное. Зато отлично запомнил, как она вдруг забыла строку и растерянно смолкла и как мне стало за нее страшно. Однако когда она, преодолев заминку, продолжила свою декламацию, я вдруг задним числом почувствовал тайное удовольствие оттого, что она едва не сбилась. Я сам испугался этому злорадству, обнаруженному в себе: ведь за Лелю я готов был в огонь и в воду, плохого я желать ей не мог. В то же время мне почудилось, что после этой ее ошибки Леля стала мне чуть-чуть ближе, роднее. На той золотой фольге обожания, в которую я ее упаковал, появилась вдруг живая царапинка: Леля, оказывается, тоже может ошибаться, и, если бы я знал это стихотворение, я бы потихоньку подсказал ей строчку и ее заминка была бы короче. Порой мы тайно желаем неприятностей своим ближним – и вовсе не потому, что хотим им плохого, наоборот: потому, что хотим найти какой-то повод для своей помощи им; ведь добрые чувства, которые мы не умеем или не смеем высказать, мы можем осуществить только через помощь.
Какой была Леля? Помню ее как девочку удивительно красивую; может быть, она такой мне казалась, быть может, такой и была. Надменная посадка головы; серые глаза – большие, не круглые, а, наоборот, продолговатые более, нежели у всех; челка несколько длиннее, чем у детдомовских девочек, волосы темные и совершенно гладкие; не то строго, не то капризно сжатый рот, – всегда казалось, что она вот-вот рассмеется…
Нет, все это не те слова, словами обрисовать я ее не могу.
Чувство своего словесного бессилия, очевидно, и есть то, что мы зовем муками творчества. «Мысль изреченная есть ложь», – сказал Тютчев. Эту формулу можно толковать многозначно, я же понимаю ее так: мы знаем, что все наши воспоминания и впечатления, самые тонкие и зыбкие, кажущиеся нам речью не выразимыми, на самом-то деле записаны, закодированы нашей памятью в виде словесных образов; мы не всегда можем «вспомнить», в какие слова воплощены эти образы, – и подставляем слова приблизительные, неточные. Этим мы не только, сами того не желая, лжем читателю или собеседнику, а и разрушаем в своей памяти подлинные, первичные впечатления, хранившиеся в ней. Талант – это умение воспринимать и отдавать воспринятое с наименьшими потерями при передаче. Гении потому, наверное, и гении, что при всей огромности своих глубинных, первоначальных впечатлений они могут полностью расшифровать себя. А так как я не гений, то больше и не буду пытаться дать словесный портрет Лели, чтоб окончательно не замутнить для самого себя того ее облика, который сохранился в моей памяти.
26. Снова Старая Русса
В Рамушеве мы прожили до осени.
Памятная предотъездная веха – «желудевый субботник». В тот день воспитатели и воспитанники с песнями отправились в расположенную недалеко от парка дубовую рощу собирать опавшие желуди; они предназначались для суррогатного кофе, который был тогда в большом ходу. Через два дня мы покинули детдом.
Я запомнил последние минуты пребывания в Рамушеве. Сумрачное осеннее утро. У подъезда – крестьянин-возница, лошадь, запряженная в двухколесную таратайку; вещи – чемодан и узлы – погружены, сестра моя уже забралась в повозку. На матери – темно-зеленое пальто с шарообразными пуговицами, лицо у нее расстроенное. Стоя у дверей, она о чем-то тихо разговаривает с Зоей Арсеньевной.
– …поверьте, скоро надо ждать дворянских погромов, – доносятся до меня слова матери.
Зоя Арсеньевна, переходя на шепот, отвечает ей какой-то длинной фразой. Затем мать вступает в переговоры с владельцем подводы; тот, оказывается, заломил теперь еще более высокую цену, нежели было договорено накануне. Наконец таратайка трогается. Мы пока идем за ней пешим ходом, так же как и хозяин. Зоя Арсеньевна с подъезда крестит нас в воздухе.
Мне не по себе. Мать уже не первый раз говорит о дворянских погромах. А я, не то из разговоров старших, не то из прочитанного, знаю, что при Николае были еврейские погромы; я даже приблизительно представляю себе, что это такое. Но теперь все наоборот, теперь новый режим, размышляю я, теперь будут бить не евреев, а дворян; и удивительно, что это еще не началось, что мы еще живы. Единственное, что смягчает мой страх, – я не могу отчетливо представить себе, кто же именно будет громить дворян; я отчетливо вижу топоры, вилы, штыки, ножи, но они в руках у каких-то расплывчатых, бестелесных существ. Самый плохой человек, которого я пока повстречал в своей жизни, – это хмелевская Косоротиха; но и ее я не могу вообразить убивающей людей, не знакомых ей лично, будь они евреи или дворяне. Вот война – другое дело, там ты можешь убивать тех, кого ты лично не знаешь. Зато и тебя там имеют право убить. «Смерть на войне – все-таки прекрасная смерть, никакой тебе старости…» – так сказала однажды Зоя Арсеньевна моей матери, когда та стала перечислять ей наших родственников и знакомых, которые погибли на германском фронте. Разговор этот предназначался не для меня, но ничто так хорошо не запоминается, как подслушанное.