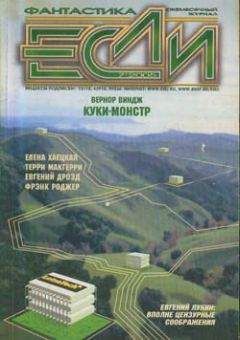Стремнина - Бубеннов Михаил Семенович
— А все эта дрянь, Обманка, наболтала про тебя разного вздора, да еще подпоила, — пожаловался он и посмотрел на Гелю жалобно. — Лезут вот так разные подлецы в чужую жизнь.
— Да, она подлая, — согласилась Геля.
— Каких мало. Ну, мне наука.
Получалось, что между ними достигнуто некоторое единство взглядов, хотя бы в отношении Обманки, и это еще более воодушевило Белявского.
— Но главное, конечно, в другом — в воспитании, — заговорил он, начиная неожиданно распространяться, как бывало с ним всегда. — Ты знаешь, рос я среди женщин. Ну, а в воспитании мальчишек, как известно, особая роль принадлежит отцам. Кто научит мальчишку хорошему отношению к женщине, как не отец примером своих отношений с матерью? Я был лишен этого примера. Все война…
Геля слушала спокойно, не проявляя желания возражать. Это окончательно обнадежило Белявского. Очень осторожно, с опаской, но он все же приблизился к Геле, сел перед нею на табурет, пытаясь, хоть мельком поймать ее взгляд.
Она не прогнала.
— Ты говорила, что моя любовь эгоистична, — продолжал он с надеждой. — Но в любви все эгоисты, иначе и быть не может. Один больше, другой меньше. Может быть, я больше всех на свете, потому и поступил так… Но что это значит? Ты вдумайся, Геля, и пойми.
— Обожди, — остановила его Геля усталым жестом. — Я вижу, ты все еще ищешь себе оправдание?
— Боже упаси! — испугался Белявский. — Только необходимые объяснения того, что случилось. Только.
— Объяснения, которые могут оправдать?
— Не оправдать, а раскрыть причину…
— И тем смягчить вину? — Оставаясь непримиримой, Геля все же разговаривала без раздражения, даже не повышая голоса. — Тебе, кажется, очень хочется этого? С мягкой-то виной полегче, а? Хитроумен ты и пакостлив…
— Не больше других, — не стерпев, сказал Белявский.
— Не скромничай — больше, я знаю, — ответила Геля без сомнения, поняв, что он говорит о Морошке. — Я еще не встречала, чтобы кто-то свою подлость оправдывал любовью. Это кощунство.
Борис Белявский готов был взреветь от досады. Все шло так хорошо, но тут, после его неосторожного намека, в ее голосе зазвучали звенящие ноты. Очевидно, она начинала приходить в себя после разговора с Обманкой и понемногу собиралась с силами, чтобы заговорить, как того требовал случай. Надо было немедленно упредить ее бунт, и он выпалил, хватаясь за грудь:
— Прости, Геля, прости за все!
— Простить можно, — сказала она.
— Я знаю, у тебя доброе сердце!
— Но забыть никогда.
Он порывисто спрятал лицо в ладонях.
— Сними с меня это пятно, — попросил он глухо.
Слушая Белявского, Геля вяло думала: «Может, и правда он все же любит меня? По-своему, но любит?» Она удивилась, поймав себя на этой мысли, чего-то испугалась и немедленно попросила:
— Ты уйди, Борис.
Он встрепенулся и согласился без задержки:
— Хорошо.
Надо было сказать Белявскому, пока он еще не ушел, что-то очень и очень важное, но Гелю все еще одолевала странная вялость. И только когда Белявский был уже у порога, она наконец-то вспомнила, что именно надо сказать, и сказала негромко:
— Ты зря приехал, Борис.
Но вышло это без достаточной твердости, и потому Белявский, быстро приободрясь, ответил с привычной самоуверенностью:
— Я ничего не делаю зря!
— Ты не надейся…
— Без надежды не жив человек!
Он ушел, так и не коснувшись вчерашнего признания Гели, будто считая, что она оговорила себя лишь ему назло. И ни слова не сказал о Морошке.
Зачерпнув из реки полное ведро, Белявский долго с жадностью глотал холодную воду — до ломоты в зубах и в горле. Затем вновь, как и утром, развалился пластом на койке. Ему нелегко далось спокойствие, с каким он держался перед Гелей. В иные минуты разговора с нею он изрядно переволновался, все время ожидая ее бунта. Теперь он с тревогой прислушивался к тому, что творилось в его душе. Похоже было, что там, в душе, гребут и тащат волокушей камни, выворачивают со дна ее валуны.
Судя по всему, Обманка действительно расправилась с Гелей безжалостно, — потом даже самой, кажется, стало неловко. Борис Белявский впервые видел Гелю такой разбитой. И все же с трудом верилось, что теперь, по словам Обманки, она пойдет за ним без поводка. Пожалуй, и совсем не верилось. Впереди все было как а тумане. Может быть, он опростоволосился перед Гелей? Очень может быть. Зачем-то, сам того не желая, он попробовал найти себе оправдание, а ведь его, конечно, нет и не будет. И потом, он чувствовал: чего-то не хватало в его словах, хотя они и говорились от всего сердца, — не то какой-то искры, не то какой-то боли…
Но если не оставалось почти никаких надежд, не разумнее ли было распрощаться с нею навсегда? Зачем она ему теперь, без той своей сердечности и любви? Зачем? Однако, даже зная, что Геля стала совсем другой, он пока что не мог оставить ее в покое. Не мог. Все в нем протестовало против такого исхода. Даже зная, что станет посмешищем на Буйной, он не мог уехать сейчас отсюда по доброй воле.
А в душе все скребла и скребла волокуша…
VII
У Родыгина никогда не появлялось даже мысли, что кто-то и почему-то поднимет против него возмущенный голос. Казалось, все у него шло и естественно и непреложно. Тем сильнее потрясла его схватка с бригадой.
И все же гораздо больше, чем эта схватка, о которой могли распространиться неприятные слухи, Родыгина тревожили сложные и противоречивые обстоятельства, какие теперь, когда в руках Морошки оказался новый заряд, складывались в прорабстве. С новым зарядом да при благоприятных условиях можно было, пожалуй, и доделать нынче вдвое обуженную прорезь. С одной стороны, это было очень хорошо, это отвечало его личным интересам, но с другой — совершенно очевидно, что в случае успеха скорее всего не он, а именно Морошка прогремит по всей Ангаре.
Неловко и стыдновато было Родыгину встречаться с прорабом после случая на шивере. Но надо было. Не терпелось узнать, чем дышит сейчас прораб и какие мысли бродят в его лобастой голове.
Встретились они на теплоходе, после того как он поставил спаровку на место и рабочие сошли на берег. Сели за столик перед рубкой. Помолчали. Не сразу, конечно, мог завязаться между ними новый разговор…
— На заседании райкома вы отказались дать слово… — подвигав скулами, с трудом начал Родыгин. — Возможно, вы были тогда и правы… — не без умысла польстил он Морошке. — Вполне возможно. Но теперь-то, я думаю, вы могли бы дать такое слово?
— Пока нет, — ответил Морошка.
— Почему же? С таким зарядом…
— Теперь дело куда быстрее пойдет, что и говорить, — оживляясь, охотно согласился Морошка. — Думаю, взрывные работы закончим вовремя.
— Так в чем же дело?
— А вот с уборкой породы…
— У тебя ж земснаряд!
— Вернее, с зачисткой прорези, — поправился Морошка. — Много камней оставляет земснаряд. Вот карты.
Карты прорези, уже пробитой в верхней части шиверы, привезенные Обманкой, были испещрены маленькими квадратиками, означавшими неизвлеченные камни.
— Многовато, — подивился Родыгин. — Что они так работают?
— Давайте сходим, узнаем, — предложил Морошка.
…Земснаряд, построенный незадолго до войны, все еще, что стало редкостью на реках, работал на угле и дымил густо, космато. Раньше он разрабатывал песчаные перекаты на Енисее — от среднего течения до предгорий Саян. У него была очень небольшая осадка, меньше метра в загруженном виде, и потому решено было испробовать его на выемке взрыхленного скального грунта на Ангаре. Земснаряд показал неплохие результаты: две трети взрыхленной породы он выгребал из прорези, одну треть раскатывал в ямы. Однако позади него все-таки оставались отдельные камни.
«Отважный» подошел к левому борту оглушительно грохочущего, резко визжащего земснаряда. Чалки принимал сам начальник — Николай Николаевич Чудаков, невысокий, худощавый человек в форме речника, проработавший на своем судне, которое сам же прозвал «плавучим адом», двадцать навигаций, что, несомненно, лучше всего говорило о его редкостном постоянстве и недюжинном здоровье. Как у всех, помогавших ему, суховатое, выбритое лицо Чудакова было изрядно измазано угольной гарью. Гостей он встретил весело: