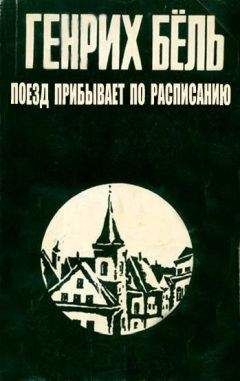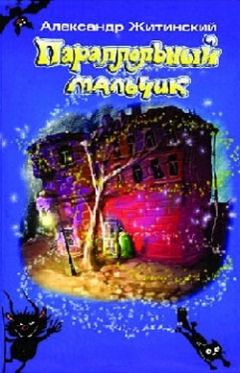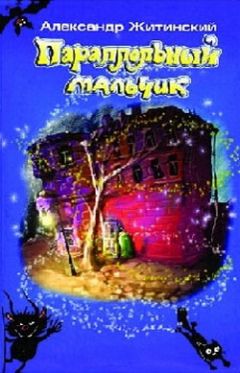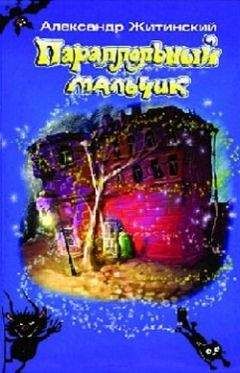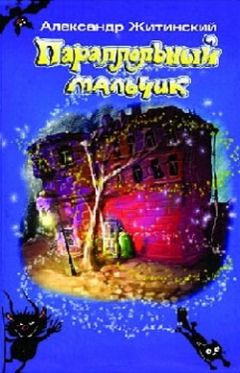Александр Аборский - Год веселых речек
— За мираба? Спасибо. Но кто же это за меня согласие давал? — Каратаев опять впился в Назарова жестким взглядом. Воцарилась тишина: люди, кажется, не дышали. — Ты-то, Мухаммед, друг из друзей, поинтересовался моим личным мнением?
— Вот оно! — провозгласил в ответ Назаров, живо и с замечательной непринужденностью, точно речь шла о пустяке. — Вот же оно, твое собственное, личное!..
Сперва он только хлопнул себя по карману, потом ловко вынул блокнот, а оттуда — сложенную вчетверо и чуть помятую бумажку. Никто, кроме них, не знал о заявлении, написанном тремя неделями раньше, с категорической просьбой начальника водхоза перевести его на должность мираба.
— Фью-ю! Ох, ребята, с ним трудно! С ним — нельзя! — присвистнул, уронил руки на кошму и совсем поник Каратаев. — Невозможно! — он указывал на «друга из друзей», а сам нервно подрагивал. Еще мгновение помедлил, никто не мешал ему собраться с духом, и тогда он, схватив пиалу с вином, поднял ее над головой.
— Ладно. Так кто со мной, товарищи?
— Пьем, — ответил ему Николай Тимофеевич. И остальные принялись чокаться с виновником тоста.
На дальнем краю кошмы негромко судачили уже о том, изменится ли оклад у начальника водхоза, и если изменится, то в какую сторону. Объездчики оценивали на глаз, строга ли, добра ли будет их новая власть; Сергей Романович дохлебнул гранатовый сок и заметил вполголоса:
— Зря шумим, товарищи. Начальство-то менять проще простого, тут все мы взаимозаменяемы, а вот дельного пастуха или топографа иной раз днем с огнем не сыщешь.
Перемещения, как мог заключить из слов секретаря райкома Каратаев, следовало ожидать в ближайшие дни. Оклад, кстати, не уменьшался, титул не становился менее внушительным. Но по своим обязанностям «главный мираб республики» сильно смахивал на главного объездчика, что понимали, конечно, все. Таган сидел нахохлившись, закусив губу, и никак не выражал своего отношения к происходящему, точно был посторонним.
— Тебя совсем не слышно, Таган Мурадович, — напомнил ему Каратаев с едва уловимой грустью в голосе. Ведь сейчас любое слово для него имело значение.
— К чему слова! — резко тряхнув чубом, ответил Таган и пристальным взглядом смерил своего учителя.
— Хочу твоего слова, — настаивал тот.
— Тогда — моя просьба, Акмурад-ага, мой учитель. Я до смерти обязан…
— Ну-ка давай без дипломатии! — поморщился Каратаев. — Аллах разберет, кто кому теперь и чем обязан, кто кого благодарить должен.
— Вы затыкаете мне рот! — возмутился Таган и озорно сверкнул глазами. — Я просить хочу.
— О чем? Ну — о чем? — торопил Акмурад, теряя терпение.
— Здесь такие места, Акмурад-ага! Раздолье, край будущего. Опытный, достойный начальник… А по штату, я знаю, по штату в вашей службе есть вакантные должности инженеров, — подводил основу под свою просьбу Таган и затем выпалил сразу: — Возьмите меня к себе инженером!
— Не возьму. Ни за что! — с жаром заявил Каратаев. Все смотрели на него, и он добавил: — Не возьму, бюрократ несчастный! Молотобойцем — хочешь? У нас есть мастерские у пристани, есть кузница. Молотобойцем возьму. Ясно? — Каратаев ощерился, довольный своим ответом, и начал деловито наливать вино, причем первую пиалу роскошным жестом вручил Тагану. Многим известно было, как в колхозе имени Ленина он пробовал силы у наковальни и просился в молотобойцы. Шутка особенно позабавила Мергенова.
— Плохи твои дела, сынок, — сказал он Тагану. — По нынешним временам, ни одну девушку за тебя не отдадут. А кто по ошибке пойдет — наплачется. Какой же это мужчина, гляди-ка, в молотобойцы толкнулся — не берут. Говорят: инженеры нужны. В инженеры хотел — нет, молотобойцы, слышь, требуются. Бедная твоя голова!
— Сдаюсь, сдаюсь. — Таган воздел руки, затем встал с ковра, чтобы размять ноги, затекшие от долгого сидения. — Кто со мной на речку, друзья? — предложил он, и тотчас же трое молодых объездчиков, топограф Чарыев и братья-железнодорожники отправились вместе с ним из дамбу.
Взобравшись на борт, курили, и непринужденно болтали. «Чах-пах» покачивало волной, вдали виднелись вздернутые над песками хоботы экскаваторов. Маячили контуры заводика с эстакадой — там строится запасной гидроузел, который завтра с утра комиссия будет обследовать. Некоторое время Таган стоял отдельно от ребят; те балагурили за его спиной. Ребята навеселе, и он не отвечает, когда к нему обращаются. Костромской не прочь поспорить как в тот раз.
— Нет, вы не правы были тогда! — Понятно, у него что-то заготовлено. — Не правы насчет девчат. А особенно насчет нее, матушки пустыни. В статьях и стихах она давным-давно стала садом, а она, извиняюсь, как стояла, так и стоит к нам задом.
— Я не прав, ты не прав, а вот он прав! — ткнул вниз пальцем Таган, показывая на страшноватый, когда глядишь с утлого суденышка, движущийся массив воды.
— Доказать надо.
— Докажу.
— Попросил бы.
Секунду-другую Таган смотрит не мигая, затем спокойно, точно на борцовской тренировке, берет Леву под грудь, поднимает и плавным броском кидает в воду. Там внизу, слышно слабое бульканье, слабый всхлип, а здесь у ребят переполох.
Двое объездчиков, не мешкая, устремляются к лодке, заводят мотор и отталкиваются веслом. Топограф Чарыев спрашивает, умеет ли этот рыжий плавать. Вопрос остается без ответа. Меред срывает с себя рубашку, брюки — пуговицы скатываются в воду, — и вот сам он в канале. Течение сильное. Лева путается с мокрыми волосами, залепившими ему лицо, но Меред так и не успевает догнать друга. У песчаного закрайка, шагах в пятидесяти от полуглиссера, они почти разом вылезают из воды, стоят и о чем-то переговариваются. Лева скинул обувь, стягивает штаны, а Меред не снимая отжимает трусики.
Объездчики, зря заводившие мотор, вернулись и отвели лодку к причалу. Все опять на суденышке; железнодорожники, робко ступая по трапу босыми ногами, пробираются сюда же. Вид у них такой — дескать, лучше бы не показываться, еще на смех поднимут.
— Я же знал, что это настоящий пловец, — успокаивал объездчиков Таган, хотя вовсе и не подозревал в Левке ничего подобного и не мог бы сейчас ответить даже самому себе, как все получилось.
— По сто граммов пловцам — и шабаш! — деловито предложил топограф Чарыев, но ему возразили. Вода теплая и выделять купальщиков не стоит, если по сто — то уж всем. Таган не участвовал в разговоре. Отозвал в сторонку и спросил Мереда:
— Мотоцикл в порядке?
— Мой? Зачем тебе? У вас же своего транспорта полно. — Он хотел выговорить старшему брату за нелепую проделку, но до этого просто очередь не дошла. Старший взял у него ключ, посоветовал пловцам сушиться как следует и всем пожелал счастливо погулять. Сам он был намерен проехаться недалеко на мотоцикле. Спрыгнул с трапа на дамбу и размашисто зашагал, насвистывая беспечно.
Глава двадцать пятая
Будто условились заранее: Ольга отошла от людей при его появлении. Он выволок из-под куста мотоцикл, включил зажигание, сел, и она вспрыгнула к нему за спину. Все словно разумелось само собой.
Отъехав километров на семь, остановились у серых холмов. Канал бесшумно бежал внизу, и отсюда четко просматривалась плавная излучина в его течении. Мотор утих. Они постояли, любуясь противоположным берегом и ничего не говоря; затем Таган повел мотоцикл за насыпную дамбу и оставил там.
— Тебе хорошо? — спросил он, вернувшись к Ольге.
— Да, — сказала она.
— Мы заговорщики?
— Ну а кто же еще!
По крутому откосу поднялись на возвышенность, выбрали место над потоком и пустыней. И что-то тревожное мерещилось в мареве, в этих складками спадающих к югу барханных грядах. И была отгороженность от всего, кроме неба.
— Заговорщики, — пробубнил опять Таган, от душевного напряжения не умея найти слова. Ольга только вскинула брови и, увязая в песке, оперлась на его руку. Но подъем уже кончился. Она пожаловалась на песок, набившийся в туфли. Вытряхнули песок. Таган бросил под ноги газеты, случайно оказавшиеся в кармане.
Сели, и сразу стало жарко: ни воды, ни саксаула вблизи не было, только редкие серо-зеленые стебли многолетней травы.
Таган сиял свою белую рубаху и привязал ее к кусту черкеза, загородив Ольгу от солнца.
— А вы?.. А ты? — забеспокоилась она.
Ей очень шло бледно-розовое с короткими рукавами платье, сшитое к празднику. За весну у нее здорово загорели руки.
— Ай, мне все равно. Не думай обо мне, — с какой-то мрачноватой отрешенностью сказал он.
— Не думать о тебе — смешно! А чем бы я тогда занималась? Вот смешно!..
— Я тебя люблю! Я люблю тебя! — громко сказал Таган, совсем не слыша ее слов. — Ни о ком, ни о чем, кроме тебя, не думаю, и ты знай об этом. У меня в жизни — только тебя любить. Не знаю, как сказать, и по-русски не знаю, и по-туркменски… Работу забыть могу, родных забыть. Будто грех на себя взял и… не знаю, как сказать! — Он не смотрел и не касался ее, как виноватый сидел поодаль, странно вытянув шею.