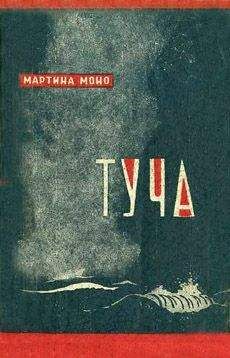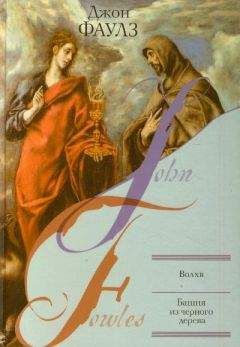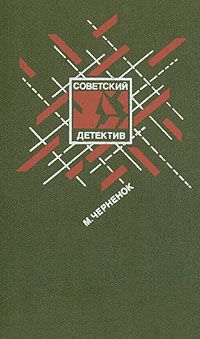Юрий Пронякин - Ставка на совесть
— Это ты меня обвиняешь в предвзятости? — повысил голос Шляхтин. Полковнику не понравилось, что Изварин, который всегда поддакивал ему, вдруг начал возражать. В то же время он уловил в словах Изварина ответ на вопрос, ради разгадки которого, собственно, и пригласил своего заместителя прогуляться. Но так просто согласиться с ним Иван Прохорович не мог, и, чтобы показать, что Изварин заблуждается, он выложил свой козырь:
— А ты знаешь, что твой Хабаров на днях заявился ко мне с ультиматумом? По поводу Перначева…
Изварин не знал, и Шляхтин рассказал ему, как это было.
В тот день Иван Прохорович пришел в свой кабинет с намерением поработать в спокойной обстановке. Он достал из сейфа папку с документами, скопившимися за последнее время, и только расположился за столом, как раздался стук в дверь. Иван Прохорович не очень любезно разрешил непрошеному посетителю войти. Им оказался Хабаров. Будь вместо него кто-нибудь иной, командир полка, наверное, сказал бы, что он сейчас занят и принять не может. Но с Хабаровым Иван Прохорович так не обошелся — и без того молодой комбат считает своего командира человеком черствым, — только недовольно осведомился, с чем майор пожаловал.
Хабаров, загородив собою выход из кабинета, вызывающе резко спросил, почему без его, командира батальона, ведома решается судьба подчиненного ему офицера, лейтенанта Перначева.
Тон вопроса взорвал Ивана Прохоровича. Он нетерпеливо встал, уперся руками в край стола и придавил Хабарова тяжелым взглядом: «Потому что я решил оградить вас от новых чепе. Мне в полку слюнтяи не нужны. Боеготовность — вот что главное!» — «Для меня тоже», — не поддался Хабаров. Иван Прохорович ядовито усмехнулся: «Весьма рад, что наши взгляды совпадают. Полагаю, спорить нам больше не о чем». Но Хабаров не отступал. Он просил отменить решение об увольнении Перначева. Это было слишком. Шляхтин подался всем корпусом к строптивому майору и, выделяя каждое слово, отчеканил: «Пока я командую полком, я буду делать в интересах боеготовности все, что нахожу нужным. И отменять свои решения… меня никто не заставит! Вы свободны, товарищ майор». Хабаров отдал честь и круто повернулся. Ивану Прохоровичу показалось, будто при этом он процедил: «Посмотрим».
В груди Ивана Прохоровича клокотало. Ему стало душно в прохладном кабинете. Он уже не мог спокойно сидеть над бумагами, швырнул папку в сейф и направился в парк боевых машин. Там в это время шли ремонтные работы. Иван Прохорович собирался пойти туда после того, как покончит с бумажными делами, однако возмутительный визит Хабарова нарушил его планы.
Иван Прохорович нашел, что навес над стоянкой машин ремонтируется медленно и плохо, и офицеру-саперу, руководившему ремонтом, влетело как следует.
Правда, эту деталь Иван Прохорович в своем рассказе Изварину опустил.
— Вот так поступает ваш Хабаров, — кольнул Шляхтин своего заместителя и пожал плечами: — Удивляюсь, от кого он узнал, что Перначев представлен к увольнению? Язык бы оторвал тому осведомителю!
Изварин, чтобы не выдать себя, наклонился и сорвал травинку.
— Такие вещи трудно утаить, — пробормотал он, пожалев, что сказал о Перначеве Хабарову: чего доброго, неприятность наживешь.
Шляхтин ничего не заметил. Закурив, он твердо сказал:
— Нам нужно проверить первый батальон. Сколько Хабаров у нас? Восемь месяцев? Пора, пора… Сам этим займусь.
Шляхтин и здесь не изменил себе: он не хотел принимать на веру хвалебные высказывания Изварина о первом батальоне, он должен сам все увидеть, прежде чем делать выводы.
XI. ПОВСЕДНЕВНОЕ И НЕОБЫЧНОЕ
1
До возвращения взвода с занятий оставалось около часа, и лейтенант Перначев решил обойти палатки, в которых жили его солдаты. Он начал с палатки, где размещалось отделение сержанта Бригинца. Полог над входом был почему-то открыт. «Ну вот, уже есть», — недовольно отметил Перначев, заглянул внутрь и увидел человека, сгорбленно сидевшего на табуретке. В полумраке палатки лейтенант не узнал его и строго окликнул:
— Кто здесь?
Солдат вскочил, вытянулся и обрадованно отчеканил:
— Здравия желаю, товарищ лейтенант!
Это был ефрейтор Ващенко. Василий тоже обрадовался. Он вошел в палатку, пожал Ващенко руку:
— Значит, поправился?
— Поправился. Тилькы… — Ващенко запнулся и упавшим голосом сказал: — Тилькы служить больше не буду; не годен.
Василий опустился на табурет.
— Так, значит… Садись, чего стоишь… — Помолчал, не зная, как продолжить, зачем-то спросил: — И куда теперь?
— До дому. Добре сейчас выписали: урожай еще не собрали, приеду — подсоблю. На комбайн попрошусь.
— А работать можно?
— Ну, а не можно, так нужно, — рассудительно ответил Ващенко и пояснил: если он сейчас не подработает, зимой трудно жить будет, а сидеть на шее у отца и матери — разве годится?
Да и не по нему такое: еще до армии сам на хлеб привык зарабатывать. И неплохо, случалось, зарабатывал, костюм справил, пальто. Будет что надеть, покуда не станет крепко на ноги.
Говорил Ващенко неторопливо и обстоятельно: в тишине госпитальной палаты у него было время все обдумать и решить. Василий слушал, как загипнотизированный. Он чувствовал себя по сравнению с ефрейтором подростком, ибо его рассуждения, его заботы были Василию мало понятны: сколько он себя помнит, ему никогда не приходилось беспокоиться об одежде, еде, жилище. Может быть, поэтому он не очень интересовался, как живут другие люди, как жили до призыва на службу подчиненные ему солдаты. Как командир взвода, он подметил «взрослость» Ващенко, его трудолюбие и добросовестность, но не задавался вопросом, откуда у ефрейтора эти черты характера, как мало задумывался, почему Сутормин легкомыслен и непостоянен.
Из-за всего этого Василию трудно было естественно, без натуги, вести с Ващенко первый, по сути дела, серьезный разговор. А Ващенко, решив, что лейтенанту неинтересно, оборвал свой рассказ и спросил, где сейчас взвод. Василий ответил. Ващенко признался: он очень соскучился по ребятам, ему жаль расставаться с ними. Василий промолчал. Ващенко поинтересовался:
— От Григория писем не було?
— Нет.
— Як он там? — проговорил Ващенко жалостливо и, вспомнив, рассказал, как следователь у него выпытывал, не стрелял ли Сутормин намеренно.
— Як он мог стрелять по злобе? Он же добрый был! — воскликнул Ващенко, закончив рассказ.
Василию стало немного не по себе, оттого что он, когда велось расследование, ничего похожего о Сутормине не высказал.
— Да, в общем-то человек он был неплохой, — подтвердил сейчас Василий.
— Вы уж, товарищ лейтенант, извините, что из-за, меня и Григория вам переживать пришлось. Мне хлопцы сказывали… — виновато произнес Ващенко.
У Василия сдавило горло.
Когда вернулся взвод и Ващенко бросился к своим товарищам, Василий с непонятной встревоженностью ушел из палаточного городка и забрался в пустующий класс. После длительного безразличия к дневнику — не до него было — он снова извлек из сумки заветную тетрадь. Но прежде чем описать последние события и излить свои чувства, Василий, по обыкновению, раскрыл дневник на ранее сделанных записях и стал читать.
18 июня. Бывает же: все шишки — на одного. На меня… До сих пор не могу поверить, что в моем взводе один солдат чуть не убил другого. Сутормин — Ващенко. Я предчувствовал, что Сутормин что-нибудь вытворит. Но совершить такое… Кто виноват? Сутормин? Я? А в чем, собственно, я? Ну, были у меня заскоки. У кого их нет? Так не в этом же причина. Ладно. Что зря гадать… Уже ведется следствие. Оно покажет. Скорее бы…
30 июня. В батальоне гнетущая обстановка. На меня смотрят, как на амнистированного уголовника, хотя следствие установило: преступная небрежность со стороны Сутормина. Радости не испытываю, хотя меня кара миновала: ЧП случилось в моем же взводе!
Решил смотаться в город. Развеяться. Попал точно в другой мир: на улицах веселая сутолока, обнаженные плечи женщин, стройные ножки. Надумал навестить Томку. До ЧП мы славный вечерок провели вместе. Позвонил. Сперва спросила: «Какой Вася?» Потом узнала по голосу, обрадовалась (или сделала вид?).
Пошли в кино. Смотрели какую-то муру. Томке понравилось, а мне было муторно, как прежде. Из кино двинули в парк. Забрели в «Лиру». Я сострил: «Наверное, эту «Лиру» имел в виду Пушкин, когда писал: «И чувства добрые я лирой пробуждал». Томка засмеялась: «Оставь Пушкина, давай танцевать».
Танцевал без особого удовольствия. И вообще, все было не то и не так. Я сказал Томке: «Пойдем отсюда». — «Но еще рано», — удивилась она. Я соврал: «Мне нужно быть на службе».
Проводил Томку до дому. Простились, как надоевшие друг другу супруги. Томка, кажется, обиделась. Ну и плевать! Не до нее сейчас…