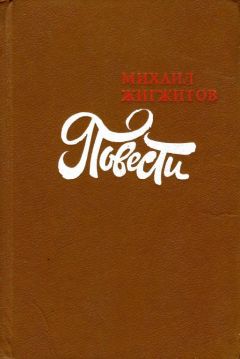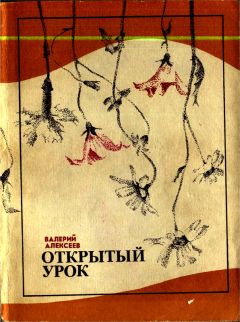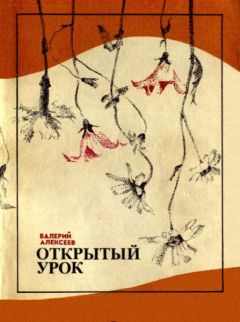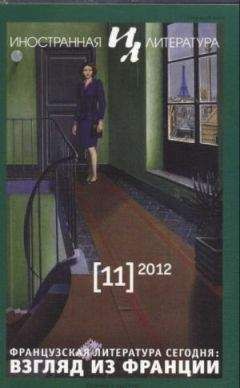Владислав Леонов - Деревянное солнышко
— Эх, ты! Опять ты... И не совестно?
— Совестно, совестно! — быстрым шепотом отозвался тот. — Все понял, осознал, только заткнись!
Возле родимого дома он затормозил. Долго и очень внимательно рассматривал какую-то скучную доску в заборе, потом принялся задумчиво изучать калитку, за которой давно повизгивала и скреблась Жучка. Когда собрался пощупать, крепко ли ввинчено кольцо, Бабкин подпихнул его плечом, и Женька, споткнувшись, шагнул на просторный двор.
Навстречу метнулась лохматая собачонка. Только бросилась она не к хозяину, а к Бабкину с Павлуней. Бабкин сдержанно погладил Жучку, зато Павлуня обнимал ее от души, ласково трепал за уши.
— Не трогай! Добрая будет! — ревниво оглянулся Женька.
— Вот и хорошо, — сказал Павлуня.
— Чего ж хорошего! Зачем мне добрая?
— Иди! — сказал Бабкин.
Женька медленно стянул с головы шапку, поскреб подошвы о рогожку, ступил на отчее крыльцо, словно попрошайка.
— Миш, слышь, давай ты первый, а? — попросил он.
Бабкин пошел первым, за ним — Павлуня, позади всех обтирал стенки блудный Лешачихин сын.
На кухне остывала широкая русская печь. Пахло жареной картошкой. Настасья Петровна, мелькая в горнице, что-то напевала.
— Ты, Миша? — услышала она шаги квартиранта. — На почту не забегал? Что-то от моего письма нету.
Она появилась — босая, в узком тренировочном костюме, с тряпкой в тощей руке: видно, мыла полы.
— Привет! — сказал Женька, деловито покашливая в кулак. — Пахнет у тебя вкусно.
Тряпка шлепнулась на пол. Сама Настасья Петровна привалилась костистой спиной к печке.
— Что ж это такое? — едва сумела прошептать она, глядя не на Женьку, а на его чемодан.
Сын, вскидываясь, зашумел:
— Покричи, покричи — совсем из дому сбегу!
Смелая Лешачиха беспомощными глазами посмотрела на Бабкина.
— Ничего, — успокоил ее Павлуня. — Живой ведь. Ведь вернулся.
А Бабкин ничего не сказал — молча прошел за ширмочку мыть руки, прихватив с собой Павлуню, которому очень хотелось послушать, какими словами станет ругать Лешачиха своего беглеца.
— Тебя долго ждать? — спросил Бабкин Женьку.
И тот, схватив полотенце, с удовольствием юркнул к ребятам: ему было страшно оставаться с матерью — та ни о чем не спрашивала, ничего не говорила, а только смотрела скорбно, словно с иконы.
Бронзовый Бабкин, голый по пояс, покрякивая, обливался холодной водой. Павлуня без кряканья мыл только руки и слегка лицо. Женька брезгливо прикасался черным пальцем к струйке.
— Мойся! — Бабкин отдал ему скользкий кусок пахучего мыла.
Сам крепко растерся мохнатым полотенцем, вернулся к Настасье Петровне и деловито начал собирать на стол, братец ему помогал. Уже появилась румяная картошка, закраснели помидоры, влажно блеснули зеленью огурцы, а Женька все еще возился возле умывальника.
— Иди, дачник! — позвал Павлуня.
— Сам ты!.. — ответил строптивец, однако к столу подсел и, ворча и обижаясь, набросился на картошку.
Буйный день укатал его. После вкусной картошки и горячего чая с вареньем теплая сладость разлилась от живота по всему телу. Отнялись ноги, закрылись глаза, в ушах тихонько зазвенело. «Сейчас завалюсь!» — блаженно подумал он, но Бабкин растолкал его.
— Завтра поедешь в училище!
— Лучше удавлюсь! — мигом проснулся Женька.
Он смотрел в лицо Бабкину такими круглыми злыми глазами, что Настасья Петровна тяжело вздохнула. Сын обернулся в ее сторону.
— И не думай, не надейся! — закричал он. — Не поеду, хоть размолотите!
Бабкин сунул ему ручку, положил перед ним на стол бумагу:
— Пиши!
— Чего еще? — нахмурился Женька.
— Пиши! — Бабкин начал диктовать: — «Директору вечерней школы сельской молодежи».
Женька послушно гнал по бумаге спотыкучие строчки, клевал носом. У него не осталось сил спорить и ворчать. Это дело он перенес на завтра, на свежую голову. Бабкин, перечитав его заявление, исправил в нем пяток ошибок и засунул бумажку в карман.
— Учиться будешь все равно. На комитете завтра решим, кого к тебе прикрепить.
Павлуня крепко подумал, сказал важное:
— Ему бы парня, посильней.
— Девку лучше, — с трудом выговорил вконец сомлевший Женька.
Через минуту он уже посвистывал в своей постели.
Уронив на колени руки, убито сидела бедная Лешачиха. Бабкин налил ей чаю, густого и пахучего. Павлуня толсто намазал хлеб маслом, от души наложил в блюдечко вишневого варенья, которое сам любил до сладкой дрожи в желудке, и, пододвигая все это хозяйке, сказал:
— Пейте, а...
— И не волнуйтесь, — подхватил Бабкин. — Мы ему шею сломаем!
— То-онкая, — жалобно протянула Настасья Петровна.
— Чего? — не понял Павлуня.
И она, сквозь слезы, с дрожащей улыбкой пояснила:
— Шея у него то-онкая...
СБЕЖАЛА ЗАПРАВЩИЦА
Утомленный, Женька спал крепко, дышал ровно и проснулся в самом боевом настроении. «Ну, куда поведут?» — приготовился он к драке.
Вошли одетые по-рабочему Бабкин, Павлуня и Саныч. Братья смотрели на Женьку буднично, словно он никуда и не отлучался, а Саныч не глядел никак, только презрительно кривил губы.
— Вставай! — сказал звеньевой, и Женька сморщился: столько в это «вставай» было упрятано невкусных дел — одевания, умывания, ходьбы и другой скучной работы.
— Помереть не дадут! — больше по привычке, чем от сердца, ворчал беглец, шлепая босиком по комнате и разглядывая рассвет за окном: серенький, весь в дожде.
Сперва его повели в контору, где директор Ефим Борисович Громов без особой охоты, больше по обязанности, прочитал ему дежурную нотацию. «Господи, и надоел ты мне!» — было написано на его лице. Женька посмотрел на красные знамена, на торжественный стол в кабинете и подумал: «Перезимуем!»
— Куда мне его теперь?! — вырвалось вдруг у Громова.
— К нам, куда ж еще, — ответил Бабкин.
— Ладно, бери пока в звено, а там придумаем что-нибудь.
«Утро начинается с рассвета», — пел репродуктор на столбе у мастерской. Утро в совхозе начиналось отсюда: здесь, под навесами, оживали трактора, разъезжаясь во все концы большого хозяйства.
Женька настороженно огляделся. Никто не смеялся над ним. Механизаторы возились возле своих тракторов, на длинной «курительной» скамейке сидел некурящий Иван Петров.
Рядом с выцветшим Иваном присел на минутку его румяный сын с пышными бакенбардами овсяного цвета. Сын этот ступал по земле чинно, а знакомясь, представлялся с солидностью: «Модест!» Однако народ посмеивался, называя его Модей либо Пузырем. Он и верно походил на пузырь: росту был невеликого, имел животик, сытые щеки и нос картошкой. К такому носу хоть еще пару бакенбардов приставь — ничего не получится, кроме хихиканья. В работе Модест толк знал. Он любил сеять да пахать вдумчиво и не носился по полю, как его родитель. Отличался механизатор внезапной, почти ребячьей обидчивостью: назовут Пузырем — надуется, запыхтит. Уживался он с людьми плохо, переменил не одно звено и наконец пришел к Бабкину. Здесь ему неожиданно понравилось: Модест оказался самым старшим, успел в свои двадцать три года и жениться и детей завести. Это давало ему право неторопливо рассуждать о трудностях воспитания, и его слушали не перебивая. Модест был очень доволен, ходил важный, в новом ватнике, в крепких стеганых штанах, из кармана торчали зеленые, только со склада рукавицы.
Иван Петров получил спецодежду вместе с сыном, но, как человек запасливый, припрятал ее пока и красовался в таком одеянии, какое и чучело постыдилось бы напялить на себя. Брюки на коленях разодрались, клочьями вылезала вата.
— Идет, деятель! — проворчал он, увидя Бабкина. — Не ценят у нас опытных.
— Ничего. Оботрутся, — сказал Модест.
Он выражался короткими, рублеными фразами, Иван же Петров, любитель узорчатой речи, ответил сыну такими словами:
— Разве они являются ведущей частью? И позаслуженней имеются.
— Точно, — отрубил Модест, и оба замолчали, потому что Бабкин подошел близко и мог услышать.
— Привет товарищу звеньевому! — с ехидством сказал Иван. — А Евгению особый привет!
— Здорово! — ответил Женька, плюхаясь рядом с ним на скамейку. — Что суров, Иван Петров?
Иван понял, что сейчас Женьку лучше не задевать. Он поспешно отвернул лицо — без бакенбардов, с редкой щетиной, но с таким же, как у Модеста, фамильным носом. Женька, однако, не унимался. Он проскакал глазками по дырам на его одежде, и молодой голос вознесся над тракторами, заглушая репродуктор:
— Ты что, по колючей проволоке елозил? Аль гуси тебя щипали?
— Ты не очень-то, — нахмурился Иван. — Помолчал бы.
— А мне сегодня не молчится! У меня аппетит на разговоры! — Женька решил доконать Ивана за вчерашнее.
Тот понял это и, вскочив, пошел к Бабкину. Сапоги у него так скособочились, что казалось, он идет на голенищах, Женька захохотал.
— Звеньевой! — засвистал Иван, подступая к Бабкину. — Уйми своего! Иль я до Громова дойду! До парткома доберусь.