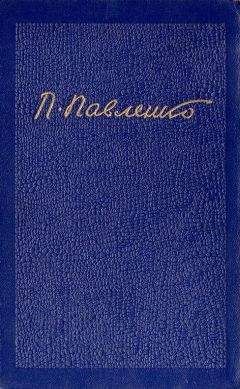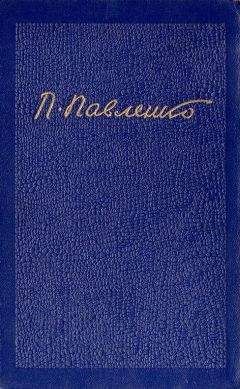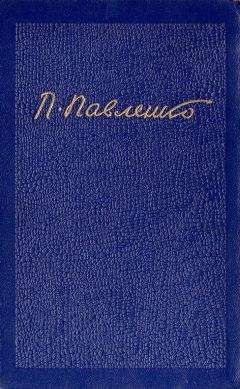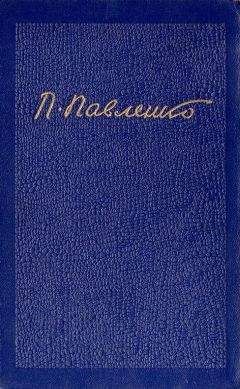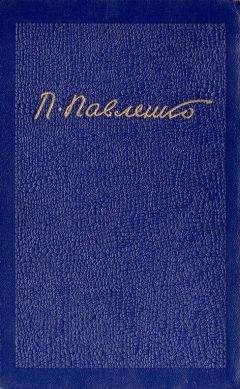Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 1
Молчаливый жест, сделанный подошедшим служителем, выбросил Равэ в боковую комнату. Он опустился на софу, чувствуя, что устал бесконечно и что ему стыдно своего поведения в зале Совета… Голова его вдруг… Он никогда не мог подумать, что можно падать так легко. «Это, наверно, головокружение», — подумал он успокоенно и смело сказал высокому худому ученому, который бесцветно предстал перед ним:
— Я все-таки проголосую за бюст Антиноя. Его отлично можно вынести вон. Статую Римлянина-оратора тоже. Честное слово, зачем им торчать в музее? Вот это «Раненый галл»? И его… На нашем Монмартре пропасть чудных углов, где их поставить. И Боргесского льва, будьте добры… Нет, нет, Боргесского льва, а не Гомера…
И он тотчас уехал в провинцию. Впрочем, ощущение, что он все еще остается на софе, его не покидало. Но оно и не портило развития поездки. Орлеан оказался точно таким, каким он знал его лет восемь назад. По столикам кафе «Жорж» бегало солнце, как в тот час, когда он отдыхал там от голода, молодости, обиды на жизнь. Он не знал, что с собой делать (как и тогда). Но и душе была молодость, только лишь более мудрая, перед ней все стало проходить в хаосе любимых воспоминаний — обиды, недоедание, надежды, имена, лица, память об ощущениях. Пошли воспоминания часов и минут, они являлись сразу во всем своем содержании, линейно, в одной плоскости, лишенные перспективы, дом рядом с портретом, имя рядом с беседой, беседа рядом с толпой. Он все рассматривал в себе без содействия слов, они не угнались бы за тем, что предстало, и упустили бы в своем пересказе все самое главное.
Поздним вечером он проснулся. В комендатуре долго не выпускали его наружу, и пришлось передать позорное свое поведение на заседании Совета, чтобы выскочить на улицу, получив вдогонку несколько пожеланий крутой солдатской заварки.
Ночь. Ей открыты все окна. Она шарит в настежь открытом ей городе, как одна волна в изгибах и щелях берега, смывая с него пыль и травы и мешая их вместе, и путая, и отбрасывая, соединив в одно, к соседним берегам и в глубины.
Ночь. Ей открыты все окна. Ночь шарит в настежь открытом ей городе и все находки соединяет в одну. Она темно-проста, без деталей, без частностей, она как громадная точка в конце утомительной дневной фразы.
Вот подойти бы к окну, за белой занавесью которого слышны голоса, отдернуть невесомый тюль и сказать несколько слов или запросто прислушаться к разговору, посмеяться чужой шутке или кивнуть глазами в ответ на печальные рассуждения, — и не будет это ни странным, ни оскорбительным. Ночью частное не имеет значения.
Мостовые гулки. Они далеко разносят шаги пешеходов и цокот конских копыт. Они так гулки, что по ним движутся одни звуки движений, фигур же движения незаметно, — они далеко. Свободной тишины ночи не нарушает даже грохот по небу: это высоко к небу вздымается и в него бьет эхо канонады. От нее вздрагивают облака.
Но почему приснилась ему вдруг молодость? Если верить приметам, то молодость — путь. И почему — Орлеан?
Незаметно для самого себя он избирает кратчайший путь к перестрелке. Он идет, отбрасывая ногами брызги звуков. Он не щадит теперь ночи. Если ей открыты все окна, если ночь шарит в настежь открытом ей городе и все находки соединяет в одну, — пусть она бросит в окна клубок настроений из тишины, шагов одинокого пешехода и дальней канонады за стенами Парижа — тишину, шаги, канонаду, — и пусть из этого сегодня возникнут все сновидения спящих, все надежды бодрствующих, все опасения малодушных, все бреды умирающих.
Путь не запоминается. Улицы подхватывают Равэ сами собой и быстро, не запинаясь, передают его переулкам, пассажам, площадям и следующим за ними, как бы ожидающим его новым улицам. Едва улавливает он их состояние — безлюдность, темноту или освещенность. Откуда-то сбоку налетает слабая зыбь музыки. Она кажется случайно продолжающейся ото дня, вроде капели незакрытого на ночь водопроводного крана на площади. За звуками музыкальной мелодии вырастают другие. Звуки разбредаются на ночлег, как загулявшие хулиганы. Топот ног твердо проходит по воздуху, скользит вместе с уличным ветром беседа — слово здесь, слово там, а конец улетает в деревья, скрип метел кривляется, подражая шуму волны у океанского берега, и ящики у товарных депо играют в перестрелку под руками торопящихся грузчиков. Удар топора по сухому звонкому бревну прохаживается, как уличный сторож, и, — будто, бормочут в голодном сне беспризорные, — бормочет булыжник, кайлом вырванный из мостовой и ссыпаемый в кучи.
Равэ заблудился. Все в нем устало, все бредит — и слух, и глаза. Он долго приглядывается — ага, вот оно что, город давно на исходе, концы последних улиц небрежно сливаются в общие пустыри. Равэ ориентируется. Воздух полон тихой тряски от дальних выстрелов.
«Пусть убивают! Нам наплевать! Едва успев умереть, мы снова рождаемся поколением страшнее прежнего и сильнее». (Он сказал «мы», конечно, не о себе и не о череде отдельных существований, но о всех бунтарях, известных человеческой памяти.)
В его крови — так чувствовал он сейчас — текла родовитая кровь смутьянов, зачинщиков, поджигателей. Никакая даль истории не отделяла этих ощущений родства, и в гербе его рода могла быть помещена дубина или дикий камень — оружие первых бунтовщиков. Он чувствовал в себе наследственность мужества, упорства и пафоса. Они были его состоянием. Победа была узко личным вопросом. При нем или нет? Увижу или, может быть, не успею? Но что она будет — в этом не возникало сомнений. И пусть убивают! Нам наплевать!
— Не бросайте мешки, осторожно, спускайте их на веревках.
— Считайте лук! Мы имеем сорок мест лука… Сколько моркови? Тридцать? Пересчитайте морковь!
Несколько человек, высоко задрав головы, грузили мешки на ручные тележки, впрягались в них и медленно уволакивали в глубь улиц. Они работали совершенно молча, лишь иногда пощелкивая пальцами, когда им приходилось расходиться друг с другом в узком пространстве перекрестка.
Равэ остановился и в удивлении долго пытался объяснить себе эту таинственную сигнализацию. Он сам оглушительно щелкнул пальцами, когда один из грузчиков направился в его сторону, и он крякнул от сдержанного смешка, увидев, что тот быстро остановился, даже покачнувшись от резкости своего движения, и, пощелкав пальцами протянутой вперед правой руки, — будто он звал этим звуком куда-то забежавшего пса, — взял другое, уже верное направление. Равэ щелкнул еще — и другой грузчик отпрянул в сторону, озираясь недоуменно. Захохотав, Равэ быстро вошел в самую гущу работы, щелкая обеими руками. Впереди него все смешалось. Побросав мешки, люди пятились в разные стороны, наталкивались друг на друга, еще больше увеличивая так неожиданно возникший хаос.
— Кто это щелкает? — раздраженно крикнул один из грузчиков. — Дайте там ему в морду.
Все закричали:
— Александр! Александр! Тут кто-то валяет с нами дурака. Посмотри-ка, в чем дело!
Все стояли теперь, не двигаясь с места, и лишь изредка посылая в воздух один-два легких щелкающих сигнала.
— Послушайте, вы! Какого, действительно, чорта!
Равэ увидел, что на него двигается громадного роста мужчина.
Голова его была далеко вытянута вперед. Он шел, часто проводя рукой по лбу.
— А что? — спросил Равэ, уже начиная смущаться, так как почувствовал непонятную вину за происшедшее.
— А то! — угрожающе сказал тот и отстегнул от пояса палку, прикрепленную как палаш.
Он рассчитал свои движения так, что должен был запереть Равэ в узком простенке между домом и соседним заборчиком. Палка уже кружилась в его деятельной руке.
— А то! — сказал он еще раз. — Когда мы работаем, нам никто не мешает. Так у нас принято. Зрячие должны помогать, а не портить. Идиот вы!
— Зрячие? — Равэ отскочил в сторону, так как палка почти коснулась его. — Послушайте, вы смеетесь! — Он шлепнул себя ладонями обеих рук по лицу.
Человек с палкой остановился, спросил:
— Что это? Слушайте, что вы там еще вытворяете?
Но Равэ уже понял. Он стал на четвереньки и, крадучись, пополз мимо человека с палкой.
— Что там с вами случилось? — опять спросил тот. — Эй, вы! — он раздраженно разводил в стороны руки и озирался, морща лоб.
Равэ был далеко в стороне.
— Исчез, — сказал человек с палкой. — Подумать только, сколько он хлопот нам наделал. — Он стал простирать руки, будто что-то от себя отодвигая. — Где вы там? — спросил он своих.
Те ответили тихим сигналом пощелкивания. Он вслушался в эти сигналы. Мозг его сделался чем-то вроде громадного уха.
— Ничего, — сказал он, — сейчас мы это наладим.
Ступая на носках, Равэ прыгнул в дверь бара.
Желающие перебраться через городскую стену составили очередь у стойки этого подслеповатого, при одной керосиновой лампе, питейного заведения. Безногий Рони сидел на углу стола, как большая дрессированная лягушка.