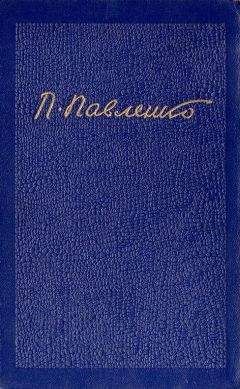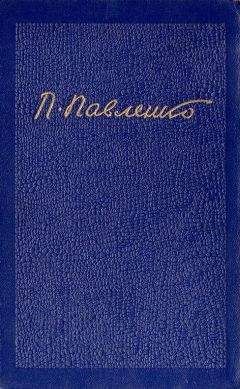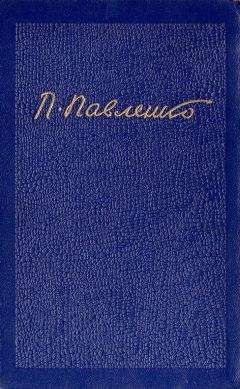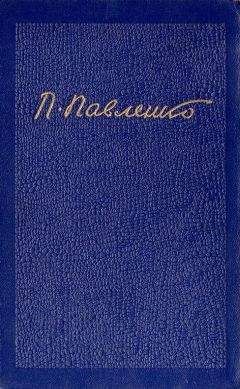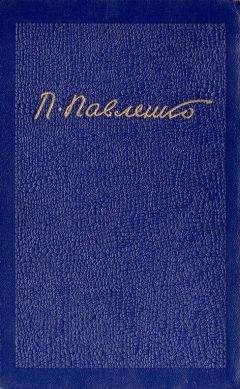Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 1
Окна скрипнули в рамах, и пол мягко шевельнулся на один миг. Тишина пропустила сквозь себя щелк барабана. Полк женщин проходил под командой седоусого офицера. Шарль Амуру, секретарь Совета Коммуны, прикрыл окно и, волнуясь, пересмотрел телеграммы.
Северо-западный фронт
Со стороны Сен-Клу накапливаются колонны версальцев.
Анрье.
На люнете Бланки масса трупов. Ракеты взорваны. Полковник… искажено… преувеличено известие о том, что перебито много наших.
Водопроводный редут занят версальцами.
Версальцы штурмуют лит. Б.
Разрушения на капонире заваливаются мешками нехватает транспорта предупредите военного делегата.
Перед левой крайней каморой головного капонира версальцы сделали галлерею, устье которой величиною в два квадратных аршина забрасывают бомбочками. Самая камора полуразрушена: в верхние отверстия наши бросают бомбочки. Необходим инженер.
Шлем Коммуне свой боевой привет обещаем честью выполнить до конца свой долг.
Группа кавалеристов отряда Зоологического.
Собрание школьных советов, назначенное на пять вечера, переносится на восемь. Категорически ждем представителя Совета.
На укреплении Н — пожар.
Амуру прогнусавил:
— «Раззл, даззл, хоббл, доббл», — и отбросил папку. — А как на южном фронте? — спросил он дежурного. — Нет ничего?.. Чего-нибудь такого?
Тот протянул ему папку.
Близ Вильжюиф замечены люди в малиновых мундирах. Кто это может быть? Сообщите.
Помощник мэра.
Версальцы траншеями подвигаются вперед Биланкуру.
— А чего-нибудь такого, особенного?
Ниже Витри на Сене села на мель барка с зерном.
Организуем отряд спасения условием десяти процентов.
Неприятель сильно обеспокоен. На заводе Медона большое движение.
Доводим до сведения для принятия мер через Красный Крест. С высот Шатильона батареи сильно обстреливают дорогу к Монружу. Стреляют даже по одиночным людям уже десять дней. По поручению собрания.
Верни
По дороге в Мон-Валерьен прошло 150 носилок с их ранеными.
В квадрате 20 — четыре больших палатки, повидимому, для начальства.
Прищурив глаза, Амуру осторожно взял из груды сообщений телеграмму о хлебной барже. Он сделал это со вкусом, как выбрал себе пирожное.
Дверь в коридор, когда он пытался открыть ее, чтобы выйти на заседание, кем-то была придержана извне.
— Ну-ка, сделайте тут что-нибудь, — неопределенно произнес Амуру, повертев рукой в воздухе.
Дежурный, отчаянно разбежавшись, ударил ногой в дверь. Она едва поддалась. За нею, конечно, ее подпирая, делегат финансовой секции Журд бранился с Виаром, делегатом продовольствия. Их беседа напоминала ритмический танец, потому что, обнимаясь, отталкиваясь, тыча друг друга в грудь, похлопывая по плечам, они занимали собою громадное пространство. Их все обходили стороной, чтобы не получить случайного толчка в бок. Делегаты мяли друг друга с ожесточенным увлечением. Амуру передал им телеграмму о барже.
Пробило одиннадцать. Кто-то крикнул по коридору: «Члены Совета! На заседание!» В буфетной оставалась лишь небольшая группка людей, прокурор Коммуны Риго, делегат просвещения Вайян и третий, неизвестный. Журд, Вар и Амуру подошли к ним. Вайян любезно и очень торжественно произнес в сторону неизвестного:
— Гражданин Вашберн, посланник Америки.
Американец очень легко и непринужденно поклонился и тотчас стал продолжать свою прерванную речь.
…Вопрос о работе всего более занимает теперь умы и потому представляет всего более опасности. Между затруднениями, с какими сопряжено решение этой благородной специальной задачи, есть, господа, одно, которое проистекает от странного заблуждения.
Американец оглядел окружающих. Он делал даже это не глазами, а всем своим серым вытянутым лицом, будто просто-напросто показывал каждому фас свой, совершенно серый и совершенно покойный, с одной живой и блестящей точкой — золотым верхним зубом, невероятной, прямо нарочитой величины.
…Полагают, что в обществе находится особый класс, называемый рабочим, или трудящимся, и это-то мнение порождает недоумение, зависть и гнев. Надо бы внушить, господа, миролюбивым людям (он скороговоркой прибавил: — а вы знаете мое отношение к вашему делу, господа, и ко всем вам как истинным обеспечителям мирного равенства), надо бы внушить им, что мы все не что иное, как трудящиеся под различными видами, и что между нами (я говорю как социалист) все интересы общие, все обязанности одинаковые.
— А права?
Вопрос принадлежал, повидимому, Риго. Как бы не расслышав, американец продолжал:
— Господина Бланки, очевидно, должно назвать трудящимся. Да и всякий, кто — подобно ему — возделывает поле мысли, не трудящийся ли? Не трудимся ли мы все, пока существуем? — Он опять показал всем по очереди свое лицо. В улыбке его сверкнуло золото. — Некоторые сделали из организации труда какую-то утопию. Эта утопия может превратиться в важнейшую из опасностей нашего общества. Да, да, господа. Лучше обращаться к практическим вещам (я говорю как друг), изучим действительные потребности, узнаем истинные условия труда, не станем разделять людей ненавистными разграничениями, а соединим их взаимными обязанностями, любовью к ближнему…
— Члены Совета! На заседание.
— Я откланяюсь, господа. Вас зовут к решению важных дел. Льщу себя надеждой еще встретиться с вами.
Члены Коммуны, толкая друг друга, пожали его длинную громоздкую руку.
— Конечно, заходите, конечно, — весело и почти гостеприимно несколько раз подряд произнес Риго. — Заходите, поспорим.
Потом, когда американец скрылся за углом коридора, Риго вдруг крякнул, пенсне подпрыгнуло у него на носу и, ринувшись вниз, закачалось на черном шнурке; он добродушно захохотал и шепнул Вайяну:
— Единственное, что я извлек из его любви к ближнему, это то, что надо обязательно сделать поголовный обыск в городе. Я тебя уверяю, — воодушевленно сказал он, тряся Вайяна за борт сюртука.
Равэ был одним из тех, кто уверял себя, что он заседает с восьми утра. Люди собрались сюда отовсюду. Они принесли с собой новости, недоумение, ошибки, победы и всем этим тут же обменивались, стоя по углам коридора или сидя на подоконниках и не прибегая к старому академическому порядку стройного и строгого заседания. Работники трудовых примирительных камер шептались с Френкелем, хохотали и топали ногами женщины, собравшись гурьбой в читальне. Вдруг вылетал кто-нибудь из залы и окрикивал коридоры: «Предлагается обязательное отчисление в пользу раненых! Согласны? Что? Ну, прекрасно!» — и снова исчезал в зале. Военные поносили стратегию.
Когда Равэ попал в залу, было четверть двенадцатого. Несмотря на страшный шум разговоров, шаги переходящих с места на место людей, когда в зале не было, кажется, и десяти человек, занятых одним делом, — все наиболее важное доходило до всех. Никто не интересовался оратором, которого мог слышать один лишь президиум, и, однако, все знали, что происходит. Стенографистки фиксировали не то что каждое слово, но даже каждый вздох, раздающийся в зале.
Предстояло заслушать последний проект воззвания Коммуны к французскому народу. Начало декларации торжественно потонуло в реве голосов и аплодисментах.
«Восемнадцатое марта открывает новую эру экспериментальной, позитивной научной политики…»
«Научной политики!.. Ах черти, черти, — шептал Равэ, глотая слезы. — Ах черти родные».
«…Это конец старого правительственного и клерикального мира, конец милитаризма, бюрократизма, эксплоатации, ажиотажа, монополии, привилегий и всего того, чему пролетариат обязан своим рабством, а родина — своими бедствиями и страданиями… Наш долг бороться и победить!»
Равэ вскочил на скамью.
— Да, да-да-да-да! — закричал он отчаянно.
Он почувствовал себя великим, мужественным человеком, развязывающим мир от его прошлого. Сознание величайшей независимости прохватило его легкой, приятной дрожью. Ему хотелось бросить всего себя в круговорот событий, жить в нем, страдать, наслаждаться и гибнуть. Любое невозможное мог бы он сейчас сделать с чрезвычайной легкостью. Лишь бы это не называлось ни жертвой, ни преданностью. Никто не отступает, потому что все верят. Жертв нет, налицо естественный образ действий…
Молчаливый жест, сделанный подошедшим служителем, выбросил Равэ в боковую комнату. Он опустился на софу, чувствуя, что устал бесконечно и что ему стыдно своего поведения в зале Совета… Голова его вдруг… Он никогда не мог подумать, что можно падать так легко. «Это, наверно, головокружение», — подумал он успокоенно и смело сказал высокому худому ученому, который бесцветно предстал перед ним: