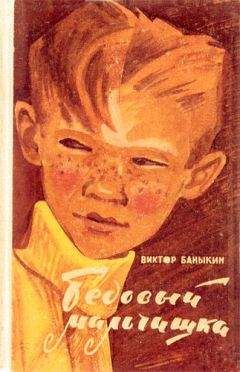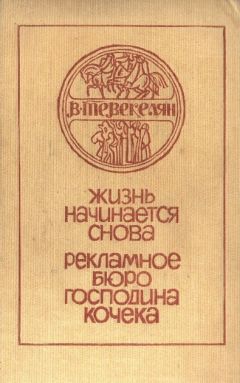Виктор Баныкин - Лешкина любовь
Оксана села к Варе на кровать.
— А вообще-то тебе везет. Счастливая! То Лешка — такой симпатичный парень — вокруг тебя увивался, то этот Мишка — профессорский сынок. Моргни ему глазом, и он за тобой на край света, как телок, поскачет!.. А теперь третий появился: шофер с нефтепромысла. Обожаю таких!
Кривя в улыбочке тонкие губы, Оксана пожирала Варю зелеными тревожными глазами. А Варе было невыносимо это ее разглядывание в упор.
— Я независтливая, ты прекрасно знаешь. И я так рада за тебя! — с еще большим вдохновением затараторила Оксана, не желая замечать, как она надоела Варе. — Только Лешку — раз забыл — выброси начисто из головы! Евгений куда лучше: один сын в семье, а хозяйство какое! Во всей Порубежке, говорят, другого и не сыщешь. Одних пчел десять ульев. А сад? Райский!.. Заработки же у него дай бог! И левака не промах зашибить. Сама слышала, как Шомурад сказывал: «Калымит что надо этот прохвост! Старуху какую и ту за так не подвезет». Понимаю, Шомурад от зависти…
— Оксана, ну о ком это ты? — Варя поморщилась, доведенная до отчаяния.
— К тебе с открытой душой, а ты… ну, зачем, светик, притворяться? — Оксана драматически, как заправская артистка, всплеснула руками. — О Евгении твоем толкую, о ком же еще? Желаю тебе, Варечка, большого-большого счастья… если, конечно, сумеешь удержать Евгения. К такому красавцу, само собой, все девки липнут. И он, болтают, не теряется!
Решительно приподнявшись, Варя оперлась локтями в подушку. От клокотавшей в груди ярости она мертвенно побледнела.
— Сейчас же убирайся вон с моей кровати! Я тебя видеть больше не хочу!
Оксана опешила. И все еще продолжала сидеть у Вари в ногах. Полуоткрытый рот. Круглые, точно стеклянные пуговки, глаза, готовые вот-вот выпрыгнуть из орбит.
— От такого счастья… я из Подмосковья сбежала! — Варя собиралась сказать что-то еще, но не смогла: ее душили слезы.
Она отвернулась к стене. А чтобы не разрыдаться, сунула в рот угол подушки.
Очнулась Варя вечером. Разбудил ее стук в дверь, негромкий, но настойчивый.
— Кто там? — спросила она, все еще продолжая лежать на боку.
И вдруг — совсем рядом — из открытого настежь окна послышался шепот:
— Варвара, ты одна?
Почему-то испугавшись, Варя вскочила, глянула в окно. Но под окном никого не было.
— Это я… Анфиса. Ты одна? — снова раздался тот же нетерпеливый щепоток.
— Одна, одна… А ты где, Фиса?
И только тут в проеме засиненного окна выросла высокая худущая фигура, закутанная в темный полушалок.
— Убери стол, я влезу в окно. Смотри свет не включай.
Варя послушно отодвинула столик, и Анфиса проворно вскарабкалась на подоконник, потом неслышно спрыгнула на пол.
— Дверь тоже запри на ключ, — приказала гостья. — Я не хочу, чтобы меня ваши видели.
Присели — Варя на кровать, Анфиса на стул. Сбросив с головы шелковый полушалок, Анфиса спросила:
— Тебе не противно меня видеть?
— Какая ты все же странная, — Варя пожала плечами.
Гостья молчала, быстро-быстро перебирая пальцами тяжелые длинные кисти полушалка.
— А ты знаешь, мой-то Иван… умом рехнулся. Видно, бес попутал, — всхлипнула вдруг Анфиса, по-бабьи подпирая кулаком щеку. — Не иначе бес попутал!
Варя молчала.
— Собирается от сана отречься… «Не верю, говорит, больше в бога. И не хочу, говорит, людей обманывать, не хочу на их подаяния жить».
Анфиса вытерла концом полушалка глаза, но не сдержалась и опять всхлипнула. В ее сгорбленной, поникшей фигуре чувствовалось отчаяние, безнадежное отчаяние.
— Уговаривает в Сибирь уехать. «Поступлю на стройку… У меня руки вон какие… и заживем с тобой честно, как все»… Люблю я его. Понимаешь? Люблю! Кабы не любила, бросила бы — и весь сказ!
Ничего не говоря, Варя встала, обошла стул. Погладила Анфису по плечу. Неожиданно вспомнила: в ту глухую лунную ночь в начале весны Анфиса вот так же гладила ее, Варю, по плечу. И недавно это было, и в то же время, казалось, давным-давно!
— Успокойся, Фиса. Тебе не плакать надо, тебе радоваться надо! Сердце твое любви искало, а не бога… пойми ты это!
Анфиса посидела-посидела, потом поднялась, поцеловала Варю в лоб. Постояла и еще поцеловала. И уж после этого, все так же молча, метнулась к окну, точно большая черная птица.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Все эти дни после выходного работали на рытье котлована под школу: сломался бульдозер, а ждать, когда его починят, было некогда. Земля попалась тяжелая — каменистая. Досталось всем: и парням, и девкам. Ребята копали, выворачивали ломами камни, обливаясь потом, девчата же таскали на самодельных носилках грунт. Уставали как черти.
И уж теперь после смены редко можно было услышать веселый смех, шутку. Даже Шомурад, пристрастившийся в последнее время к игре на гармошке, даже он не притрагивался к ее голосистым ладам. Поест, что попало, и на боковую.
Как-то в обеденный перерыв, прихватив с собой свертки и сетки с едой, все разбрелись кто куда: одни зашагали к Волге, застывшей в нестерпимом полуденном блеске, другие — к томившейся в зное раскудря-кудрявой рощице.
К обнаженному до пояса Шомураду, вытиравшему о лыжные штаны набрякшие свинцовой тяжестью руки, стремительно подбежала Оксана.
— Пойдем на речку? — громко, чтобы слышали все, спросила Оксана парня и, не дожидаясь ответа, схватила его за локоть.
— Жаным… сердце мое, у меня ноги деревянные, — оглядываясь на Варю, проворчал в замешательстве Шомурад, видимо, не желавший идти вместе с Оксаной.
Но та силой потащила его за собой.
Варя посмотрела на лоснившуюся от пота спину казаха, словно вымазанную дегтем, выждала, пока он и Оксана не скрылись за щетинистым в слюдяной текучей дымке бугром, подняла с земли свой пакет и побрела, прихрамывая, к первому попавшемуся на глаза деревцу. Ей хотелось идти как можно быстрее, а ноги не слушались, решительно не слушались.
Вот и молоденькая осинка, невеселая, с еле шелестящей, точно ошпаренной кипятком, листвой. На ржавую траву падала тень, негустая, с бегающими бликами, но Варя так умучилась, что ей было все безразлично. Хотелось лишь одного: упасть и не вставать. И пролежать вечность.
И она блаженно растянулась на шуршащем, нагретом солнышком пырее, почему-то пахнущем земляникой — самую так малость.
Варя лежала вниз лицом, разглядывая паутинки трещин на земле. Вот уже полмесяца не перепало ни одного дождя, и почва стала трескаться, а цветы и травы на поляне сохнуть.
Пробежал, куда-то спеша, усатый дымчатый жучок. У глубокой расщелины, показавшейся жуку бездонной пропастью, он приостановился, повел недовольно усами. А потом, свернув в сторону, опять заторопился по своим делам.
«Похоже, эта ловкачка Оксана права, похоже, я и Евгению больше не нужна, — следя взглядом за убегающим жучком, подумала с горечью Варя. — После воскресенья он и глаз не кажет».
Она уронила на обгорелые натруженные руки голову и попыталась заснуть. Но ее и сон не брал. Глухая, ноющая боль в сердце не давала покоя.
«Боже мой, какая тоска!.. А куда делся Мишка? Хоть бы он что-нибудь… хоть бы он словечко какое сказал», — и тут Варя вспомнила. Михаила нет. Его и еще двоих ребят прораб утром послал по какому-то делу на нефтепромысел.
Открыв глаза, Варя увидела прыгавшего как-то вприскочку воробья. Воробья явно заинтересовал Варин сверток с бутербродами. В одном месте газета порвалась, и на окружающий мир таращилась золоченым глазом поджаристая горбушка хлеба.
«Пусть его клюет, — решила Варя, собираясь снова сомкнуть ресницы, но внезапно вздрогнула. — Уж не мерещится ли мне?.. А может, я сошла с ума? Серьезно, я не сошла еще с ума?»
Она со страхом уставилась на сторожкого воробья, совсем близко подскакавшего к бумажному свертку. Смелую птаху будто нечаянно облили раствором известки. Лишь вертлявая головка осталась серой с коричневыми крапинками. Варя еще раз потаращила глаза. Нет-нет, ей не померещилось: воробей и в самом деле был кипенно-белым.
«Воробушка, откуда ты взялся такой диковинный?» — зашевелила Варя спекшимися губами. И уронила на руки совсем затуманившуюся голову.
После работы все отправились купаться, одна Варя не захотела идти на Волгу. Когда она подошла к общежитию, на скамейке рядом с Мишал Мишалычем сидел, покуривая, Михаил.
— Какая беда с тобой случилась? — ахнула Варя, едва увидела Мишку. Подкосились ноги, и она плюхнулась на нижнюю ступеньку крыльца.
Казалось, Михаил собрался на бал-маскарад: стащил из театрального реквизита белые перчатки маркизы и, недолго думая, напялил их до самых локтей. Только несло от этих марлевых «перчаток» вонючими больничными снадобьями.
— Успокойся, Варяус, ничего особенного, ровным счетом ничего! — Михаил подошел вразвалочку к Варе, пристроился рядом с ней на ступеньке. — Руки все целы… малость обгорели только.