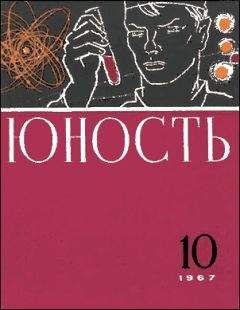Расписание тревог - Богданов Евгений Федорович
— Славка, — сказал Зуев.
— Вячеслав или Станислав?
— Ярослав.
— У тебе пневмония али бронхит?
— Пневмония.
— Односторонняя али двух?
— Внематочная, — сказал Зуев.
— Пять шаров! — захохотал молодой. — А я Сашка. Держи кардан! — И протянул пятерню.
— Горохов, — назвался мужик. — Павел Яковлевич.
— Уже усек, — сказал Зуев. — А во сколько тут ужин, ребята?
— В семнадцать тридцать, — ответил Горохов, — по графику расписания.
Помолчали.
— Ты женатый, Ярослав? — вдруг спросил Сашка.
— Обязательно. А ты?
— Я тоже!
— Сколько ж тебе лет?
— Двадцать один! Третий десяток.
— И детки есть? — уважительно спросил Зуев.
— Нет, нету. Людка не хочет.
— Захочет, — сказал Зуев.
— А живешь где? — чуть погодя спросил Сашка.
— В Печатниках, на Шоссейной.
— Ха! А я в Перерве! Девятиэтажку за оврагом знаешь?
— Как не знать. Ты лимитчик, что ли?
— Ну! А ты?
— Тоже.
— Во дела! — воскликнул Сашка. — Одна лимита́ собралась! Яклич ведь тоже лимитчик. В жэке дворничает!
— У мене в Москве свояченица живет, — сказал Горохов. — Да дочка Тимирязевскую академию наук кончила. Мене с собой не ровняй, лобочес орловский.
— Ага, — согласился Сашка, — ты у нас коренной москвич. Рылом только не вышел.
— Я сельхозпроизводством руково́дил, — сказал Горохов, пропуская реплику Сашки и обращаясь к Зуеву. — Про тульский совхоз «Шульгино» слыхал? Как нет? По телевизеру показывали! Фермой командовал. Дом у меня тама крестовой. Баня с отопительной колонкой, мотоцикл колясочный, «Урал»… Ну и конечное дело, хозяйство.
— И чего тебя в Москву понесло? — спросил Сашка. — Сидел бы себе на печке, тараканов давил.
— Не твоего ума дело! Я, Ярослав, в своей жизни раза не ошибся. Как смолоду расчет вывел, так по нему и следую.
— Так всё бросили и уехали? — спросил Зуев.
— Зачем? Квартирантов пустил. Хорошие люди, ничего не скажешь. Оне и за коровой ходят.
— Кулацкая ты морда, как я погляжу! — сказал Сашка. — Ярослав, давай ему ночью велосипед сделаем?
— Я тебе изделаю велосипед! — встревожился Горохов. — Счас дежурного врача позову!
Отворилась дверь, няня вкатила тележку с чайником и винегретом. Поставила на стол две тарелки, разлила чай.
— На тебя седни не полагается, — сказала она Зуеву. — Ты новенький.
— Что ж ему, голодным лежать? — возмутился Сашка.
— Останется чего, принесу, — посулила няня. — Кружка у тебя есть?
— Не догадался, — виновато сказал Зуев. — Лей так, в ладошки.
— До чего смирёный мужчина. — Няня вздохнула, достала из кармана небольшую фарфоровую кружку, налила вскрай.
— Романовна, а сахарку-то пожалела, — попенял Горохов.
— В твои лета сахар вредный, — отрезала няня. — Ишь, пузу какую наел.
— Это, Романовна, у него грудь, — пояснил Сашка, — только малость приспущенная.
— Оно и видать, — кивнула няня.
Сашка развернул сверток с колбасой и маслом, ловко напластал бутербродов.
— Садись, Слав! Не стесняйся!
За едой разговорились о работе. Сашка работал водителем в автобусном парке.
— Прямо с линии сняли! Высадил пассажиров на конечной — и вдруг будто кто кол в грудь забил. Пот ручьями. Постовой подскакивает: в чем дело, водитель, а ну дыхни! Я как раз дыхнуть-то и не могу. «Скорую» остановили, врачиха — градусник. Сорок один и пять десятых в тени! Ну, под белые ручки и сюда. Яклича смешить. Что характерно, до сих пор температуру согнать не могут! Просто пять шаров, да и только.
— Исть надо боле, — рассудил Горохов. — Хоть через чуры, а исть. Голодовать ни к чему.
— Были бы кости!
Зуев рассказал о себе. Работает в ДОКе (деревообделочном комбинате) в Курьянове, в больницу попал своим ходом. Температура держалась тоже почти месяц, но рассчитывал перебить парилкой и народными средствами, да и начальство упрашивало не брать больничный: конец квартала, конец года. Дотянул до последок, пока верстак не клюнул — весь нос в занозах. Хорошо, напарник рядом был. По одной вытащил. Поди, с час трудился.
Лечение не было обременительно ни для медперсонала, ни для больных. По утрам лечащий врач совершала обход, выслушивала пациентов и прописывала назначения. Они были для всех одни: четырехразовые инъекции пенициллина.
Лечащий врач Ирина Леонидовна была молодая женщина с непомерно развитыми бедрами, хотя в талии узка и в плечах самая обыкновенная. Если бы не эти бедра и не заикание, она отличалась бы от прочих врачей больницы только вятским произношением. Зуева она невзлюбила с первого взгляда. Едва он пожаловался на гастрит, как она с плохо скрываемым злорадством записала его на диетический стол.
Очевидно, сознание незаурядности телосложения, омраченное равнодушием тех, кого оно должно было поразить в самое сердце, вкупе с недостатком речи сделали из нее то, чем она стала. Если бы, однако, стереть с ее лица выражение озлобленности и рефлексии, да прибавить зарплаты, да поселить в отдельной квартире, то на первый план выдвинулись бы совсем иные черты. Ирина Леонидовна переехала в Москву недавно. Получив комнату в коммуналке, она вскоре убедилась, что шансов устроить личную жизнь на данной площади нет никаких и на кооператив в ближайшие годы собрать не удастся. И то женственное, неглупое и даже задорное, что прежде составляло основу ее характера, сошло на нет.
Зуева как вновь поступившего она слушала чуть дольше, чем остальных, с брезгливой миной пальпировала живот.
— Г…де у тебя печень? — спросила она.
— Где у всех.
— Н…ет там!
— Не знаю, всегда была.
— Ирина Леонидовна, — обратился к ней Сашка. — Что за дела? Меряю пульс — на руке шестьдесят, а на ноге восемьдесят!
— П…ора выписывать!
— Ой, можно сегодня?
— Л…ежи! П…ульс у него! Чего мокрый-то весь?
— Конденсация!
— И г…олова вся м…окрая.
— Работает, вот и потеет!
— Остряк. Б…рагин. Фамилия какая-то запьянцовская.
— Какую дали!
— Скажи т…ридцать т…ри.
— Тридцать три.
— Еще!
— Триста тридцать три!
— Я не прошу т…риста! Просто тридцать т…
— Тридцать три! Сорок четыре! Пятьдесят пять!
— Хватит! Р…азговорился.
— Лобочес, — поддакнул Горохов.
Этот при появлении врачихи весь расцветал, лоснился каждой складкой лица; глаза в постоянном подозрительном выкате утягивались под надбровные дуги, сокращались до диаметра шнурочных фисташек. Очень уж он хотел понравиться… Смысл его искательств был весь наружу — началась пора снегопадов, и Горохов рассчитывал отлежаться в тепле. Ирина Леонидовна на его заискивание реагировала строго, но, в общем, благоволила к нему больше, чем к остальным.
Зуеву лежать было муторно. Болели мягкие ткани, истыканные шприцами; болеть они начинали еще до укола, когда он вставал в очередь под дверь процедурной. Сестры кололи по-разному, некоторые почти неслышно, другие словно задавались целью дырявить как можно больней. Впрочем, и те и другие дружно бранили его за мешкотность. Вины же Зуева не было, просто сестра-хозяйка выдала ему рубашку не по росту, и, пока он выпрастывал подол из штанов, сестры теряли темп и нервничали. Зуев сердился тоже:
— Вашими иголками только носки вязать!
Негладко было у него и на сердце. Часами разглядывая потеки на потолке, он тосковал по дому, по жене Алевтине и дочке. Ярославна в отличие от родителей была урожденная москвичка, ходила в садик. В часы посещений из-за карантина Зуев общался с ней через стеклянную перегородку и не мог ни полялькать, ни приласкать. Алевтина появлялась накрашенная, под хмельком. Работала она на мясокомбинате, в колбасном цехе, и приносила в дом вдвое больше, чем Зуев, но этих-то дурных денег он и боялся. В минуты душевной близости уговаривал ее переменить работу, пойти на стройку или в тот же ДОК. Алевтина только смеялась.
Теперь, когда Зуев находился в больнице и Алевтина осталась без его контроля, в голову лезли самые мрачные думы. Так и виделось, что Алевтиной заинтересовались органы, что какие-нибудь краснорожие мясники мнут ее в колбасных подвалах, известно, пьяная баба себе не хозяйка; или, того горше, дочка сидит голодная и неухоженная, а мать гуляет. С каждой встречей он все настойчивее упрашивал Алевтину развязаться с сотоварищами, не встревать в их махинации, и, кажется, упросил.