Борис Мегрели - Без всяких полномочий
— Здравствуй, Ахмет. Задержалась. Бармалей, перестань хулиганить!
Ахмет посмотрел на меня.
— У лошадэй посторонним нэлзя, — сказал он.
Парень говорил с жутким акцентом. Казалось, язык у него одеревенел и не может касаться ни альвеол, ни нёба. Вместо «е» он произносил «э», мягкого знака вообще не существовало…
— Это журналист, Ахмет. Из газеты. Собирается писать о наездниках, — сказала Нина.
— Наездниках или наездницах? — переспросил Ахмет.
— Наездниках, — ответила Нина.
— Интересно, — сказал Ахмет. — Обо мне может написать?
— Наверно, — улыбнулась Нина.
— Тогда другое дело. Пиши, товарищ журналист. Я буду говорить, ты пиши.
— И так запомню, — сказал я.
Ахмет ходил от стойла к стойлу, осматривал лошадей и говорил.
— Что такое наездник? Самая трудная профессия в цирке. Ты готовишь лошадь, готовишь месяц, два, три, четыре, сколько можешь. Но даже сам Магомет не в силах сделать так, — чтобы наездник в работе с лошадью достиг абсолютной точности. Что главное на манеже? Ритм. А лошадь по неизвестной причине неожиданно меняет ритм. Почему меняет? Аллах его знает! Зритель не замечает этого, зато я замечаю, потому что я стою на спине лошади. Замечаю, как лечу вниз, если, конечно, не успеваю сам сменить ритм. Что нужно для наездника? Мой отец Алибек-хан отвечает: «Сработанность с лошадью, устойчивость, умение в одну секунду изменить ритм. Но лучше родиться наездником». Понятно я говорю?
— Понятно, — сказал я.
— Ахмет, на сегодня хватит, — сказала Нина. Она кончила кормить Бармалея и скребла его железной щеткой.
— Почему хватит? — спросил Ахмет.
— Хватит, хватит, — сказала Нина.
— Еще один абзац, и все, честное слово, — взмолился Ахмет.
— Ты что, всю лекцию отца выучил наизусть? — сказала Нина.
— О тебе хочу сказать, да! Отец о тебе не писал.
— Ну, говори, говори. Любопытно послушать.
— Курс, знаешь, что такое, товарищ журналист?
— Какой курс?
— Не знаешь. Такой трюк, когда наездник сильно разбегается и прыгает ногами на спину лошади.
— Понятно.
— Вот эта девушка делает курс лучше всех в мире, честное слово! Какой у нее прыжок! Мужчины завидуют. Честное слово. Сначала в партере рондад-сальто-мортале…
— А это что такое?
— Боковой прыжок с приходом сперва на руки, потом на ноги, а затем переворот в воздухе.
— С ума можно сойти!
— Честное слово, можно! Потом разбег и прыжок на спину бегущей лошади, потом прыжок на манеж и снова прыжок на лошадь. Честное слово, не прыжки, а порхание бабочки!
— Ты меня захвалил, Ахмет, — сказала Нина. — Но все равно приятно.
— Вот в такой момент лошадь сбивается с ритма? — спросил я.
— Почему в такой? В любой, — сказал Ахмет. — Хочешь посмотреть, как мы с братьями и отцом работаем?
— Спасибо, но сегодня у меня полно дел.
— Приходи в любой момент. Скажи, что ты к Ахмету. Тебя пропустят.
Он протянул руку. Я пожал ее, и мы расстались.
— Вот видишь, какие у нас люди, — сказала Нина, вешая на столб щетку. — Попрощайся с Бармалеем.
Я похлопал Бармалея по шее, и он уткнулся шершавыми губами мне в лицо. Я отпрянул.
— Он же целует тебя! — воскликнула Нина.
— Я предпочитаю более нежные поцелуи, — сказал я.
— Ты не любишь животных. — Нина стала прощаться с Бармалеем.
Мы вышли из цирка.
— Ну как? — поинтересовалась Нина.
— Тебе не тяжело спускаться по лестнице?
— Нет. Каковы твои впечатления?
— Мои впечатления сводятся к одному — ты самоубийца.
Некоторое время мы спускались молча.
— Ты собираешься снова влезать на лошадь? — спросил я.
— Нет, — ответила Нина.
— Это твердое решение?
— Да.
Я проводил Нину и отправился к Ахвледиани.
Он открыл мне сам.
— Добрый вечер, — сказал я.
Он стоял в полосатой пижаме и рукой придерживал дверь. Его взяла оторопь. Я заметил, что свободная рука Ахвледиани задрожала, поползла к карману и укрылась в нем. Он молчал, и я сказал:
— Вы не хотите меня впустить?
— Заходите, — вымолвил он.
— Где мы можем поговорить? — сказал я, когда он закрыл дверь.
— О чем? — спросил он.
— Есть о чем, — ответил я, оглядывая прихожую. На круглой вешалке черный пиджак с орденскими планками, рядом — серая в дырочках шляпа. На полу тощий коврик. Ни тумбочки, ни зеркала, ни украшений.
— Пожалуйте в комнату, — сказал он.
Полупустая горка, буфет, круглый стол в середине — все из дуба — и неожиданно старые, под стать вешалке, венские стулья. Интересно, куда он девает деньги, подумал я.
Ахвледиани оставил дверь открытой. Видимо, он был дома один. Мы уселись за стол друг против друга.
— Слушаю вас, — сказал Ахвледиани.
— Луарсаб Давидович, мы не могли бы немного поговорить о прошлом?
— Что вас интересует?
— Ну, например, за что вы получили первый орден?
— За Курскую дугу.
— Вы ушли на фронт по призыву?
— Добровольцем.
— Вы тогда учились, или уже работали?
— Мне тогда было двадцать девять лет. Работал и учился на третьем курсе политехнического.
— В каких частях вы воевали?
— В саперных. В газетах уже писали обо всем этом. Ничего нового добавить не могу.
— Да, конечно. Недавно мы праздновали День Победы. Что вы испытываете, вспоминая фронтовую жизнь, войну, своих товарищей?
— Благодарность. Бесконечную благодарность к тем, кто не вернулся.
— Почему благодарность?
— Потому что они сложили головы ради меня, живого. Там, на фронте, каждый умирал за другого. Тысячи человек ради жизни одного. На той же Курской дуге перед нами, саперами, поставили задачу — сделать проход в заграждении противника. Как сапер может сделать проход? Доползти до заграждения и ножницами перерезать колючую проволоку. А немец под прицелом держит все заграждение. Шестьдесят шесть саперов уже сложили головы. Я был шестьдесят седьмым, получившим приказ. Прикрываясь телами погибших товарищей, я выполнил приказ. Меня только ранило. Я мог быть не шестьдесят седьмым, а шестьдесят первым, вторым, шестым…
Я обрадовался, что удалось разговорить его, и ничего не записывал, опасаясь напугать Ахвледиани.
— Да, — сказал я. — На фронте вопрос не стоял так — почему я? Вы демобилизовались в сорок пятом?
— В сорок седьмом.
— Я был тогда мальчишкой, но помню, с каким почетом и уважением встречали фронтовиков. Очевидно, награды сыграли роль в вашем назначении директором?
— Решающую.
— Вы согласились сразу или возражали?
— Моего согласия никто не спрашивал. Надо — и все! Да и не возражал я. Тогда я был молод. Едва исполнилось тридцать пять. Моему самолюбию польстило такое доверие.
— Представляю, какую гордость вы испытывали.
— Вначале. Потом появился страх, что не справлюсь. Пошел учиться. Вот когда появился настоящий страх. Ничего не помнил! Все растерял за годы войны. Да, не все ладилось. Через два года меня чуть не сняли.
— Поэтому главным инженером к вам назначили Вашакидзе?
Ахвледиани словно опомнился. Я почувствовал, что он как улитка вполз в свой домик, и ничто теперь не заставило бы его снова открыться. Но я не мог не спросить о Вашакидзе.
— Вам неприятен мой вопрос?
— Скажите, молодой человек, зачем вы пожаловали ко мне?
— Карло Торадзе, — сказал я после паузы.
— Он жулик и проходимец.
Я укоризненно покачал головой.
— Карло Торадзе…
Ахвледиани перебил меня и неожиданно сильным голосом закричал:
— Не смейте произносить его имя в моем доме!
— Он не виновен!
Ахвледиани вскочил и указал мне на дверь.
— Уходите! Сейчас же уходите!
Я возвращался домой в скверном настроении. Ничего я не узнал. Одно упоминание о Карло Торадзе привело Ахвледиани в ярость. Почему? Что за этим крылось? Не так все просто было, как казалось мне. Что-то недоступное моему пониманию стояло за поведением Ахвледиани. Я в чем-то ошибся. Но в чем? Ахвледиани не виновен? Я возвратился к своим рассуждениям дома, когда лежал на кровати и думал о Карло, о Вашакидзе, Ахвледиани. Конечно, Ахвледиани оступился. Конечно, он хотел выбраться из топи. И конечно, он ухватился за Карло — свою последнюю надежду. Он поверил в Карло. Он пошел бы за ним. Но, видно, Карло не все до конца говорил ему. Нет, не знал Ахвледиани, почему Карло перевели на склад. Не знал и не понимал, почему Карло согласился. Потерять положение, часть оклада, перспективу, наконец?! Ради чего? Ахвледиани решил, что обманулся в Карло, что Карло такой же жулик, как остальные. А спустя некоторое время арест Карло утвердил его в этом заблуждении. Вот откуда его ненависть к Карло. Да, ненависть…
— Привет журналистам! — услышал я голос Шота. Он возник словно из-под земли.
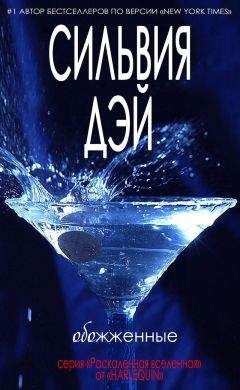
![Петр Киле - Свет юности [Ранняя лирика и пьесы]](/uploads/posts/books/255498/255498.jpg)
![Петр Киле - Свет юности [Ранняя лирика и пьесы]](/uploads/posts/books/255683/255683.jpg)

