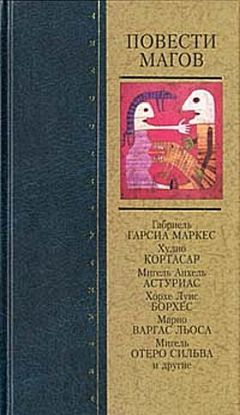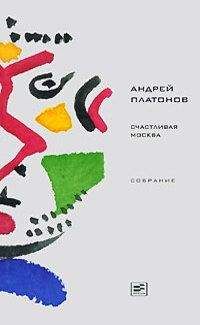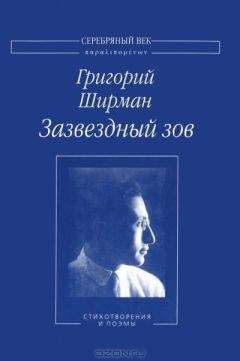Павел Зальцман - Щенки. Проза 1930-50-х годов (сборник)
– Погонялин?
– Будто кто-то в сенях упал. Не он ли?
Смирнов открывает дверь и выглядывает в сени.
От запаха брынзы Погонялин очнулся. Он встает на четвереньки. Темнота кружится. Рука попала в щель. Он приподнимает доску – упала со стуком. Это вход в погреб. Он откидывает дверцу. Дунул холод. Густой запах брынзы стаскивает его по обливистым ступенькам. Шумом его слепых шагов заглушен осторожный шорох.
В углу в черноте между бочками один голос шепчет другому:
– Сиди смирно, дядя. Он уйдет, и мы драпанем.
– А если он наткнется на меня?
– Тогда бей его.
– Тебе, байстрюку[23], хорошо – ты в бочке.
– Какое хорошо! Тут рассол. Словно меня обосцали!
– Ну и что же?
– Ничего, – говорит первый, скрипнув зубами, – молчи.
Погонялин остановился у брынзы. Он нащупал камень на бочке, спихнул его и путается руками во влажной тряпке, торопясь добраться до пищи. Пока он пережевывает и глотает терпкие пахучие и острые куски, роняя слюни на землю, его руки тянутся к другим бочкам, сжатым деревянными обручами. Он опускает пальцы в сетку укропа, погружает руку, вылавливая помидоры, и ощупью движется дальше. Несколько раз он останавливается, наевшись огурцов, помидор, брынзы и сливочного масла, спотыкаясь в радостной укромной суете. Вот еще большая бочка. Она не закрыта. Он запускает руку туда, завернув шинель, и бормочет: «Посмотрим, что в этой? Что это за га́рбуз? Что это на него налипло? Укропом они его обкладывают, что ли, или шерстью? А тут что? Ой, черт, что это?»
Рванувшаяся голова сидевшего в бочке ушла из его рук. Он не успевает крикнуть.
Выше ворота шинели шея сжата. Железный крючок вдавился в горло. В лицо дохнул гнилой запах изо рта. Не в близкой темноте, под ногами своих, не в воровском уюте у брынзы, в страшной яме, в чужом доме. Неведомые руки и незрячий страх широко раздирают глотку. Погонялин кричит, но крик не выходит из стиснутой.
– Бросай, бросай его.
Кто-то ударил кулаком в лоб, голова вырвалась из сдавивших рук. Душивший шипит:
– Эх! дядя!
Бессознательно принесенная винтовка вывалилась и упала под ноги. Первый, бросившийся к лестнице, споткнулся и упал с железным звоном. Погонялин перепрыгнул через него, больно ударившись об него носком, и вцепился руками в глиняную ступеньку, нога на мгновенье замерла в чужой темноте. Он один без направления, голос застыл. Он успел закричать. Острый локоть ударил ему в голову, и он упал назад, столкнувши с ног ударившего. Тот всползает со страшной медлительностью. Опрометью к выходу, второй, ловя его пятки, не успевает за ним. В треснувших сенях сверкнули выстрелы. Первый сгибается и прыгает от люка, а второй скатывается по ступенькам вниз. Оба забиваются за бочки.
В сени принесли лампу. Поручик спрашивает:
– Кто же это?
Кашин говорит:
– Не иначе – воры.
Все молча принюхиваются к пахнущему рассолом холоду. Кашин крикнул в колодец:
– Эй, вы, господа, выходи наверх. Отвечай. Стрелять будем! – и говорит Леньке Смирнову: – А ну, ударь.
Солдаты зовут: «Погонялин! Ты здесь?» – и слушают. Становится тихо.
– А где же Михайлов?
– Михайлов под печкой. Залег спать.
Кашин ведет дуло вниз.
– Лучше бросить.
Он шепотом спрашивает:
– Почему?
Костя предложил завалить тяжелым чем – «или забьем и пусть там отсиживаются». Ленька Смирнов заложил засовом и кочергой дверь на улицу. Очень уж тихо. Наступила ночь. Печка светит красным огнем. Под ней храпит Михайлов. Костя придвинулся к черной дыре и заглядывает. Вдруг плита зашипела. Курица выкипает. Кашин и Костя бросились в комнату. Михайлов вскочил.
– Что ж ты, мать твою за ногу заснул! Не видишь, полказанка ушло! Бульон же это, а не что другое!
– Нашел слово – бульон!
Они возятся с едой. Из сеней им кричат:
– Вы там ее не совсем прикарнайте. Чтоб нам осталось.
– А что вас ждать!
– Пойдемте к ним.
Поручик кричит:
– Стой! А здесь?
Румянцев направляет дуло:
– Чего смотреть, надо кончать.
Он стреляет. Ленька вторит ему. Курица еще не готова, ее ставят опять. Михайлов приходит тоже. Все уткнулись в дыру. Грохот разрывает сени. Те начинают кричать, но уже их не слышно. Из разбитых бочек рассол полился на пол.
Что-то упало с хрустом, и закричал человек. Он пробивается внизу, толкая обломки. Поручик кричит:
– Стой!
Но сразу трудно остановиться. Пули внизу вбиваются в глину, разбивают доски и звякают об железо. В погребе кто-то кряхтит. Человек еще прокричал. С грохотом упала бочка, и полилась вода. Они окончили, внизу стало тихо.
– Ну, стрелки, – всех перебили.
– Было сказано – выходи, – говорит Ленька.
– Надо посмотреть.
Костя снимает лампу и лезет первый. Они оступаются и держатся за стены. Погреб низкий, всем трудно поместиться. Мешают разбитые бочки. Под сапогами лопаются соленые огурцы и помидоры. Трещат куски моченых расквашенных арбузов. Хрустят стебли укропа. Михайлов подбирает что можно и кладет в выставленный подол гимнастерки, сразу же промокший, толкаясь руками в остановившихся сапогах. Он на ощупь хватает еще и еще.
Костя поднял лампу и водит, гоняя тени. Солдаты наклонились над Погонялиным:
– Может быть, еще живой?
– Что ты – не видишь?
– Видал, как он его шпокнул?
– Вынести бы его. Погонялина.
– Куда же его нести? И зачем он сюда сунулся… А вот бочки. Что здесь такое?
Они запускают руки и разбивают арбузные корки. Костя опускает лампу на пол.
– Ну куда он ее? Свети.
– А мне тоже интересно, посмотрю, что тут.
Солдаты. Иллюстрация в журнал «Перелом». 1932. Б., тушь. 17,5x9
Поднявший лампу Ленька Смирнов внимательно оглядывает оба тела. И Погонялин, и босяк в ватнике пробиты несколькими пулями. Пустой погреб завален упавшими бочками. Лампа освещает голые стены. Солдаты уносят ее и заваливают лох.
– А ты говорил, воры. Вот так вор! Видал винтовку?
– Это погонялинская.
– А тесак?
– А разве на винтовке был тесак?
– А зачем бы он его стал снимать?
– Ну я не помню. Надо было смотреть.
– И сейчас не поздно. Пойди.
– Что за погонялка нашлась! Сам иди.
– Ладно, куда торопиться, поедим. Курица помягчала.
– А что, поспать здесь?
– Тепло. Постлать шинели на листья…
Черно под столом. Накрывши ножками щели, он ходит от движения сидящих. Печка трещит спросонья. Огнем коптятся горячие донца чайника и казанков. Булькает вода, и сажа нарастает на прямые бока до самых свернутых ручек. В виноградных частых листьях палка о палку стучит ветер. В дыры от пуль влетают тонкие холодки. На вспотевших красных шеях ощущаются движения ветра. Но лица обращены к огню. Натертые ноги ноют. Приклады стоят на носках сапог. Солдаты разуваются. Последние силы поднимают их все реже. Выгорающая лампа трещит. Веки смыкаются. Сердца ублажает покой. Мертвая забывчивость опутывает солдат. Они расползлись, на листья под печку на топчан и просто к огню под стол. Им тепло и тихо.
Когда все заснули, из-за обломков бочки в погребе выползает мальчик, покрытый укропной ржавчиной. Выставив блестящую голову из люка, он прислушивается, сбрасывает засовы, звякнув кочергой, и убегает, коротко прозвенев в растоптанной кукурузе.
VIII. Западня
Семеро посланных не возвращаются. Оставшийся лагерь спит. Вороная шерсть лоснится. Скрипит ременная сбруя. «Гарцуя, опираясь на только отмеренное стремя, заменим брошенное лучшим, с песнями пройдем по легшим». Сырые листья дымят. Ожиданье перемежается чуткими снами. В них проходит полночи. Возвращаются поздно, немногие с охапками листьев в мешках и хворосту для костров, но, сонные, их бросают.
– Не озноб, не пот, не печет, а хлеб в пути, под тучей мух не круп, а хлеб, – они бормочут, просыпаясь. – Не хлеб в руках, а угли впотьмах, золотые соты, веселые налеты солдат на мед. Сдерем рядно, выряди жену. Выроди дочку на ночь на перетычку. Мы вернулись в родимый дом. Дорогие руки разоткнем. Расторкнем ноги, доторкнем до кирпича, не плачь, вытопи горячо печку. Топочет потоп, а не потопом пот течет под пеклом – конечно, нет – трясет озноб. И в холод ближе, чем ночь – голова у синих плеч. Что лито? – слеза забыта с лета, присохла как веред. Что свято? – в зад, что светло? – дым, что тепло? – вонь, что ясно? – сталь, что вырыто? – падаль.
Ну, а все-таки, что коснется, то обернутым приснится. И вот вылетают в небеса орлиные слове-словеса:
Слава – наше стойло.
Слава – наше пойло.
Слава наша – грабеж,
Руби, руби дожж.
Слава – наши жены.
Господь над ними.
Ваши нам в бляди,
А пуля – дяде.
В середине ночи, не дождавшись семерых, посылают других, и выходят пятеро по их следу. Они идут их дорогой. Следы размыты, невнимательно ищут, зато ожидают жилья, дыму, тепла и светлого человеческого лица, не худого старика, не чужого мужика, а молодой девушки. К тому же дождит. За возом, за туей на горе им светлеет забор. Наверху тихо. Они всходят по глине, ожидая увидеть дом. За низкой каменной оградой разлеглась сырая зелень. За двумя дерновыми холмиками железная решетка. Дверцы висят на одной петле. Там склеп. Дождь припустил. Дверь открыта. Они входят – вниз на две ступеньки, оставив дверь настежь для света. Негде стать.