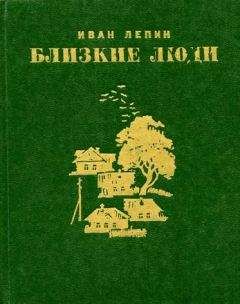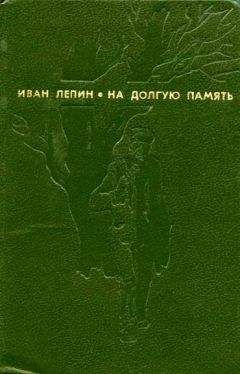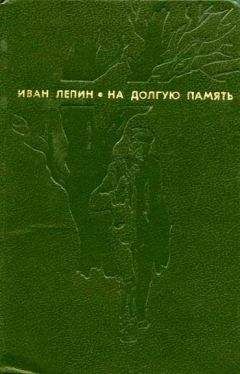Иван Лепин - Трое
Ольга видела, как туго приходилось Егору: и за дочерью ухаживал, и огород пропалывал, и корову доил, и хлеб пек… Все сам. Похудел, бриться забывал. Ольга просила его, чтобы тещу на помощь пригласил, — категорически отказался. «Я, Оленька, сам все смогу. Ай у меня рук нетути?»
И вот однажды, когда Егор подсел к ней на кровать, она предложила:
— А ты женись, Егор.
— Что? — вскипел Егор. — Что ты мелешь?
— А ты выслушай. Я все продумала.
— Ну, валяй, — нарочито грубо сказал он и приготовился слушать.
— И тебе легче будет, и Люсе нашей. Меня, надеюсь, в беде не оставите, кружку воды подадите. Правда, Егор: женись. С моего согласия.
— Ты представляешь, что люди скажут?!
— Умные — поймут, глупые — и раньше на нас всякую чепуху несли… Умоляю: женись. Она, мне кажется, согласится.
Егор вскочил с кровати:
— Кто — она?
— Она. Фрося.
Года полтора назад, когда Ольга в положении была, отпустила она Егора на свадьбу в соседнюю деревню. Одного. К дальнему родственнику какому-то. Там они рядом за столом и оказались — Егор и Фрося. Познакомились. Подвыпив, танцевать пошли. Краковяк, страдание. А в барыне она его, огненного плясуна, чуть не запалила. Он первым и сдался. «Ты как заведенная машина», — сказал он ей и, выходя из круга, взял Фросю за бочок. «У нас в Баранове все такие», — утирая платочком лоб, не без гордости ответствовала Фрося и слегка отстранила Егорову руку.
«Огонь-девка», — подумал Егор и пригласил ее в сенцы — проветриться.
Уже вечерело, в сенцах стояла темень, и Егор полагал, что никто из гостей не замечал, как он, попыхивая «козьей ножкой», поглаживал шелковую кофточку на Фросе, как чмокнул ее в щечку. Раз и другой. А потом — горячо уже — в губы. Умом он понимал, что берет грех на душу перед Ольгой, а сердцем прикипал к молодухе. Списывал тот грех на крепкий хмель. Протрезвеет — и остынет, «Да и не видит тут нас никто», — легкомысленно думал он и снова тянулся губами к губам Фроси.
Но какая свадьба, беседа или простая пьянка-гулянка проходит на Руси без вездесущих кумушек-голубушек? Без тех, что и приходят-то лишь затем, чтобы от их любопытствующего ока не ускользнула ни одна мелочь: кто сколько выпил, кто сколько съел, кто с кем танцевал, кто кого провожал. Для чего это нужно? А чтобы потом было о чем поговорить-посплетничать. Пусть даже без злого умысла.
Попался, конечно, на глаза кумушкам и Егор, наивно полагавший, что в темени сенцев никто не замечал их с Фросей и то, как они любовничали. И, естественно, через день-другой слух об этом дошел до Ольги. Ольга не поверила.
— Правда? — на всякий случай спросила она Егора, придерживая руками уже заметно выделявшийся живот.
— Бес попутал, — признался Егор. — По пьянке. Но даю клятву: больше это не повторится.
Ольга взглянула ему в чистые глаза — Егор выдержал ее прямой взгляд. И — никакого скандала. Егор и впрямь был по-прежнему верен Ольге. Только однажды, может через месяц после той свадьбы, встретился он с Фросей случайно в магазине, что на станции. С трудом узнал ее, одетую в простую одежду, в сдвинутом до бровей платке. Зато она не прошла мимо.
— Здравствуй, Егор-танцор!
Егор чуть с ума не свихнулся.
— Фрося?
— Не кричи, сумасшедший. Давай выйдем.
— Да тут моя очередь близко, — засуетился Егор.
— Испугался? Тогда — прощай, — тихо сказала Фрося и выскользнула и магазина.
Кто-то из карасевских, видать, оказался в тот день поблизости, потому что и эта коротенькая встреча не прошла незамеченной. О ней назавтра стало известно и Ольге, и всей деревне. Понеслись слухи:
— Егор, вишь ты, себе ухажерку завел.
— Понятно: баба в положении, а ему — надо…
— А кто она, эта ухажерка?
— Барановская, Фрося. У нее позалетося мужика из обреза кулаки убили.
— А-а, знаю…
Дома Егор чистосердечно сказал, что у него ничего с Фросей на сей раз не было. Ольга, однако же, теперь его словам верила с трудом. А точнее — не верила совсем. Одно ее утешало: когда родит, когда разрешит Егору с собой спать, тогда, может, он угомонится…
И вот она предлагала Егору жениться на Фросе. Сначала предлагала. Потом стала уговаривать, со слезами упрашивать, жалея его, здорового мужика:
— Ни капельки не приревную. Только не бросайте меня…
Она понимала, каким тяжким грузом стала для Егора. Понимала, что болезнь не отступит от нее, что и жить-то ей, может, совсем ничего осталось. Так пусть Егор, ее любимый Егор, пока не поздно, новой женой обзаведется. Чем раньше он начнет готовиться к новой жизни, тем лучше. И для него, и для дочери… Вот только б Фрося не отказала…
Еще неделю думал Егор. Через неделю послал сватов.
Не сразу Фрося согласилась. Сначала изумилась, заявила сватам:
— Это как же, милые, при живой-то жене?
Сваты были опытные, но не без труда убедили, что тут ничего недозволенного нет. Никто, уверяли, не осудит, худого слова не скажет. Понимают ведь люди: какая теперь Ольга жена? Вон пластом лежит; за ней; уход нужен, а разве одному мужику справиться?
Отца у Фроси не было — погиб в гражданскую. Мать была. Она особо дочь не отговаривала. Но осторожно сказала:
— Смотри сама. Как бы токо не ославили.
— Напрасно, тетка, волнуешься, — опять успокаивали ее и Фросю сваты. — У нас в Карасевке народ сознательный, не то, что у вас, в Баранове. Лихого слова никогда никто зря не скажет.
Фрося же в конце концов рассудила так: «Мне уже тридцать, женихов по моим годам близко нет. Так чего бояться? Ну посплетничают бабы, почешут языки, а потом надоест. Егор — мужик статный, заметный. А главное — веселый. У него не глаза — бесенята. Я в него еще там, на свадьбе, по уши втрескалась. Пойду, будь что будет!»
И сказала матери и сватам — коротко:
— Я согласна.
Двенадцать лет с тех пор минуло. Как жилось Фросе — одна она знает да, может, бог еще. Нет-нет, Егор не обижал ее, пальцем ни разу не тронул. Разве что под горячую руку иногда непривычным словом пулял, а чтоб обидеть — ни-ни.
Дети росли (кроме Егоровой и Ольгиной Люси, у нее своих двое народилось — и оба сына). Дети есть дети. С ними всегда хлопот-забот хватает. Фрося не различала, кто свой, кто не свой, поровну и лаской и строгостью наделяла. И дети приносили ей больше несказанной материнской радости, чем тягот.
Может, Ольга доконала ее? Чужой ведь все-таки человек, а она, Фрося, за ней лучше больничной хожалки приглядывала: обмывала, обстирывала ее, а в последнее время и с ложечки кормила.
Да нет, и это не было в тягость. Фрося не белоручкой родилась, не существует для нее неприятной или черной работы.
Страшнее всего для Фроси все эти двенадцать лет были Ольгины слезы. Да еще протяжные вздохи.
Вот сидят они за столом, обедают, Егор и Фрося. Егор ест аппетитно, похваливает:
— Мастерица ты у меня! Из ничего, считай, такие щи отчебучила — за уши не оттащишь.
Ольга видит со своей кровати, как Егор нежно поглаживает Фросю, слышит его слова, каких он ей, Ольге, никогда не говорил, и, тяжело вздохнув, еле сдерживая плач, вдруг отворачивается к стенке и прячет лицо в пуховую подушку.
Но Фрося уже заметила это. Словно ножом по сердцу полоснули ее. И, тоже с трудом сдерживая слезы, она выскакивает из-за стола и опрометью выбегает. И там, на улице ли, в чулане ли, дает волю слезам. «Господи, — причитает она, — да зачем же я согласилась на эти пытки? Да разве ж я не знала, что нельзя разделить счастье поровну?!»
Но унимала слезы и как ни в чем не бывало возвращалась в хату. Егор по-прежнему сидел за столом.
— Что с тобой?
— Да так, чуть не стошнило.
И — ни намека про свои слезы и Ольгины вздохи. А к Ольге становилась еще добрее.
Двенадцать лет вот так жила!
Недавно, на троицу, Ольга скончалась. Фрося плакала по ней — так по матери иные не плачут. Для поминок барана выменяла на свои девичьи наряды.
И девять дней, знали в деревне, не скупо отметила. И опять ревела. Бабы и так и сяк успокаивали ее; мол, хватит убиваться, не вернешь Ольгу слезами с того света, мол, надо бога благодарить, что отмучилась наконец бедная. Куда там! Отпаивать Фросю пришлось.
А плакала Фрося не только по Ольге. Плакала по маме своей, преставившейся год назад, плакала по сиротинушке Люсе, по Егору плакала, который никогда теперь не свидится со своей первой женушкой.
И тут ей передали — вести в войну быстрей звука разносились, — что видели ее Егора якобы в дальней, километров за двадцать, деревне под названием Подолянь. Кто видел — узнать не могла. Вроде бы Кузнечиха из Болотного. Фрося — к Кузнечихе. «Нет, — развела руками та. — Родиона Алутина видела, он даже подштанники велел передать, а твоего — нет. Да ты сходи — там нашенских мужиков полно. Может, встретишь».
«Может — надвое ворожит», — вспоминала поговорку Фрося, но от Кузнечихи, однако, направилась на хутор Зеленое Поле, к Парашке Заугольниковой. Она вместе с Кузнечихой ходила искать мужа и нашла его в тех же краях — в Самодуровке.