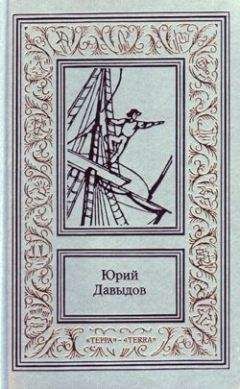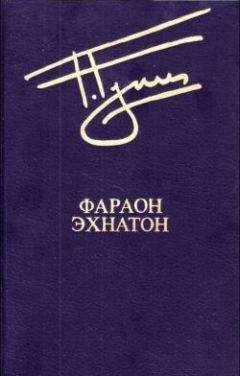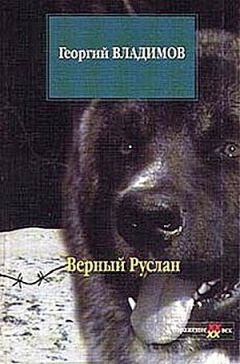Георгий Марягин - Озаренные
У самого обрыва густо окружили кого-то, почти не стихает раскатистый смех. Варя и Алексей подошли к столпившимся вокруг рассказчика.
— Знаешь, кто это? — спросила Варя. — Наш знаменитый юморист «Порядок» — крепильщик Щербаков.
Алексей сразу узнал в рассказчике того шахтера, что сочинял в «нарядной» историю про лягушку, заводившую часы. Одетый в модный светло-серый костюм, «Порядок» стоял на краю обрыва, словно на краю рампы.
— Работал я тогда, ребятки, на Веровском руднике, — услышали опоздавшие к началу его рассказа Алексей с Варей. — Проходили ствол. Работа злючая. Весь день под дождем — в стволе. Ну, и зайдешь иногда после смены погреться в палатку. Порядок. Только один раз не подсчитал я баночек. Перебор получился. Наверно, потому, что «контролер» из дому уехал — моя молодица у стариков в Калитве гостила. Проснулся я утром, а на дворе уже полный день. На часы зыркнул, и весь опохмелок как рукой сняло. Порядок. Моя смена уже полтора часа в забое. Что начальству говорить, как оправдываться? В поликлинику и показываться нельзя — по портрету видно, какая у меня слабость. И решился я на притворство. Выскочил на двор в одном исподнем, заорал свиным голосом: «Ратуйте, горим!» Набрал ведро воды и хлещу по стенам, по окнам. Мотаюсь таким чином от колодца к дому. Соседка выбежала и обмерла, пустилась по улице: «Вызывайте скорую помощь. Степан тронулся!» А я с ведром усердствую — прямо во вкус вошел, пожар гашу. Слышу мотор зафырчал. Карета скорой помощи! Порядок! Пустился я наутек, через огород. Гарбузы подвели. Запутался в их плетях, как конь в путах. Поймали гицели. Ну, думаю, порядок, нужно спектакль разыгрывать дальше. Приводят меня к врачу в кабинет, сидит старичок наш, Нил Нилыч. Я снимаю калошу с ноги, бац ему на стол: «Здорово, Настасья Матвеевна. Наливай чарочку. Угощай свата». Он из кресла выскочил и стоит на стороже, словами успокаивает, а приблизиться не решается. А я ему все сую галошу и требую свое: «Налей, сваха, чарочку». Сволокли меня в отдельную камеру. Комната приличная — отдыхать можно. Только скучища, был бы сосед — лежи поправляйся. Только и развлечения, что утром врач придет. Признали у меня воображение нервное, по-медицинскому — галлюцинация. Я уж и разыгрывать перестал. Всю правду Нил Нилычу рассказал. А чем больше я о себе по правильности говорю, тем больше ко мне подозрения. Жена стала на меня тоску нагонять — придет проведать и все плачет, сторонится меня. Нагулялся я по комиссиям от района до области. Выписали меня из больницы через полтора месяца только. И началась другая канитель — не допускают к ответственной работе в стволе... Дошло до того, что с Веровского рудника пришлось уехать...
— Ты бы, дядя «Порядок», рассказы свои записывал да в печать сдал, — посоветовал Женя Пастухов, когда отдышались от смеха слушатели, — а то возьмешь журнал, охота повеселиться, а там все серьезное пишут.
— Вот на пенсию пойду, — серьезно сказал «Порядок», — куплю толстую тетрадь, чернил бутылку и всю жизнь шахтерскую в ней изображу. Ты думаешь, только смех был? Горя повидали, житного поедали...
Подошел баянист, заиграл «Страдание», поднял всех на ноги, сразу образовался круг, и в центре оказалась, как выросшая из-под земли, Лида Мосякова, первая запевщица на шахте.
Мама, чаю, мама, чаю,
Мама, чаю с молоком,
Знаешь, мама, я скучаю
За чубатым горняком, —
выводила она фальцетом «Страдание» и шла вдоль круга, непостижимо быстро семеня сильными красивыми ногами, статная, раскрасневшаяся, с прозрачными бусинками пота на обветренном лице. И тем, кто не видел ее ног, казалось — плывет Лида.
После каждого куплета она, подперев бока руками, лихо отбивала чечетку и снова плыла.
Один куплет следовал за другим, то лирически-нежный и томный, то ядовито-злой, то мечтательно-грустный:
Милый мой, идем домой,
Зорька занимается.
Хорошо мне быть с тобой —
Мамынька ругается.
— Ах! — восклицала она и закатывала под яростный хохот карие лукавые глаза.
Выскочил в круг небольшой, живой как ртуть паренек с кепкой на самой макушке. У него плясало все — ноги, руки, казалось, даже голова и глаза, но все движения были так слаженны, быстры, ритмичны, что на него можно было смотреть без устали, наслаждаться этой бойкостью молодого тела.
Откуда-то из гущи зрителей возникли недавно приехавшие на шахту молдаване в меховых жилетках, в белых расшитых крестом рубашках и под свист дудок, обняв друг друга за пояс, закружились, понеслись в вихревом «жоке».
— Сходим в совхоз, — сказала Алексею Варя. — У меня здесь есть знакомая.
Ксения Матвеевна, крепко обнимая Варю, шепнула на ухо: «Ну, встретилась, беглянка? От жизни не уйдешь», — и стала собирать на стол.
Варя, сидя с Алексеем за столом, слушала его рассказ о том, как он в первый год войны проходил по этим местам, отступая из Донбасса. Сквозь окно виднелась нежно-розовая от цветущих абрикосов балка. Ветер доносил едва уловимые запахи их. А может быть, то просто пахло весной и казалось, что пахнут абрикосы. Ни о чем не думалось, только чувствовалось то, что нельзя выразить словом, что передается лишь взглядами, жестами, интонациями...
Под окном кто-то крикнул:
— Найшов! Я ж казав, шо найду!
Микола Петрович Шаруда с Ганной Федоровной, Коренев с женой Антониной Константиновной стояли в палисаднике.
Микола Петрович понимающе подмигнул Алексею, запел:
Ой, не ходи, Грицю,
Та й на ту вулицю,
Бо на той вулици
Дивки чаривници.
— Мы их ищем, а они сидят милуются... От люблю, когда добрым борщом пахнет, — говорил Шаруда, входя в комнату.
— Коля, ты ж у чужих людей! — останавливала его Ганна Федоровна.
— Какие же это чужие! Мы ж с Ксенией Матвеевной из Батайска овец в совхоз вместе привозили, когда шахту начали восстанавливать. Мы в Донбассе все родственники...
Обед был вкусным: греческие блюда, пряные, душистые, разные подливы с приправами из трав. Вино — выморозки — было крепким, как коньяк. После второй рюмки все охмелели. Ганна Федоровна, сидевшая до этого молча, облокотилась о стол обеими руками, подперла подбородок и сильным, низким голосом запела:
Карії очи, очи дівочі...
Микола Петрович, подняв палец, погрозил с улыбкой Варе. Он вдруг встал, подошел к вешалке, быстро снял полотенце и, обвязав рукав, под общий смех стал важно декламировать слова старинного сватовского обряда: «Я с дальнего краю купец, послав мене один молодец, чулы, що в вашем краю добрых лисиц, куниц...»
— Микола Петрович, — остановил Коренев Шаруду, заметив, как вспыхнула Варя, — давай лучше споем. В наше время ведь не принято сватать...
— Ну, не принято, так и не будем, — согласился Шаруда и, подыгрывая себе на баяне, запел. Варя вторила ему с увлечением. Алексей, не сводя с нее глаз, слушал не песню, а то, что звучало в ее душе, — какое-то тесное сплетение радости и грусти, уверенности и колебаний...
— А что мы приехали сюда — в хате сидеть? — неожиданно обрывая мелодию, сказал Шаруда. — То ж для нас оркестр танцы играет. Оксана Матвеевна, пойдемте покажем, як кадриль нужно танцевать.
— Коля, что ты надумал! — растерялась жена Шаруды. — Пусть молодые танцуют.
— А я тоже молодой! — крикнул Шаруда, снял баян, схватил в объятия жену и стал кружиться с ней по комнате. — Люблю танцевать. К сыну на свадьбу поеду в Ленинград, пусть посмотрят, как донбассовцы умеют веселиться...
Он шутливо выдворил из комнаты Коренева, жену, Ксению Матвеевну.
Алексей задержал Варю на крыльце:
— Пойдем к косе.
Они шли молча, держа друг друга за руки, как школьники — ладонь к ладони. Крутой, прогретый солнцем откос дышал всеми запахами весны. Алексей с Варей остановились у обрыва.
На косе, у самой кромки моря, кружились танцующие.
— Чудесно! — сказал Алексей. — Две стихии. Стихия моря и стихия людской радости.
— Иди потанцуй, — предложила Варя.
— С тобой.
— Я давно не танцевала...
— Я плохо танцую... Лучше поговорим.
— О чем, Алеша? Не нужно, — умоляя взглядом, произнесла Варя.
— Мне кажется, что наши жизни, наше личное сложилось не так, как...
— Хотелось? — Варя усмехнулась. — Когда ясно видят свою цель — ясно живут.
— Ты мне ничего не рассказала о себе. Прошла вечность с того дня, как мы расстались.
— Прошла... А что вспоминать? Мысленно ворошить тот пепел, который давно разнесло, развеяло время. Объяснять прошлое бесцельно. Это занятие стариков. У нас много работы, обязанностей. Это наша судьба. Это лучше самых прекрасных воспоминаний.
— Слишком рассудочно, тем более для женщины.
— Я не из тех женщин, у которых сердце заменило рассудок. Есть большее, чем жить сердцем для одной себя. Мы видели многое, многому научились. Время слепых страстей ушло бесповоротно. По крайней мере — для здоровых людей.