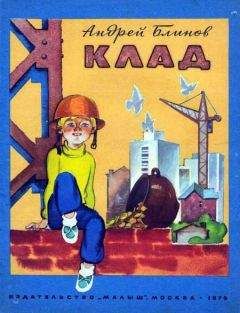Борис Блинов - Порт
— А что, она в порядке гирла, — оживился Серый.
— Стрёмная, — со знанием дела произнес Алик, что на его языке означало «вульгарная».
— Не скажи, у нее и юбка есть (имелась в виду фирменная джинсовая юбка).
— Еще бы, в море ходить да юбки не иметь.
— Так она недавно ходит. Она пришла в юбке.
— Ну и что, если в юбке, то центровая? Примитивно рассуждаешь.
— А вообще она не центром берет, а чем-то другим. Скажи, Иваныч, — обратился к Ярцеву Серый. — Как тебе кастелянша?
— Не знаю, ребята, вы уж сами разбирайтесь, — отмахнулся Олег и поднялся. — Ладно, ребята, мне пора.
— Ага, и мне тоже, — двинулся за ним Алик.
Когда они подошли к каюте Ярцева, Алик понизил голос и спросил не очень уверенно:
— Иваныч, у тебя кислота есть, травленая? Мне бы надо пять грамм.
— Решил заняться рукоделием? На парусник, что ли?
— Да нет, для дела мне, — замявшись, ответил Алик.
— У электриков есть. Скажешь, что я разрешил.
Войдя к себе, Ярцев зажег верхний свет, затемнил иллюминатор (каюта его находилась в лобовой надстройке, и свет мешал штурманам вести судно). Схемы КЭТ покрывали стол толстым слоем, свисая с краев.
Гладкие пластиковые покрытия стен отражали предметы, словно в запотевшем зеркале. На стенах у него почти не было украшений, цветных картинок, которые обычно развешиваются для уюта. Только карта земного шара, вся исчерченная маршрутами, и фотография из «Юности»: Шкловский, Каверин, Андроников на открытии клуба «Зеленая лампа». Он очень любил их всех, особенно Шкловского. «Пейте, друзья, пейте, великие и малые, горькую чашу любви! Здесь никому ничего не надо. Вход только по контрамаркам». Это он в двадцать с чем-то лет написал «Зоо или письма не о любви». Маяковский и Брик, Шкловский и Триоле, — удивительное переплетение судеб, чувств, отношений. История, современность? Все они живы или могли бы жить. И самый сильный из них, великий, ушел сам, глотнув из чаши. А Шкловский писал: «Вся человеческая культура создана по пути к любви».
В сетке над койкой лежал заложенный на середине «Моби Дик», которого он нашел в библиотеке.
С удивлением он обнаружил, что книга, которую он с таким упоением читал накануне, совсем его не занимает. Какие-то обрывки разговоров лезли в голову, цепи логических схем, словно ночные снимки столичных улиц, раздражающий голос в скрипе переборок, дразнящий смех. И что-то совсем другое, далекое, из юности: полумрак большой комнаты, в которой старинная люстра так высоко, что ее не видно, темная древняя мебель, как в кабинете Фауста, матовые отблески золотых тиснений в книжных шкафах и акварели старого Петербурга, приглушенные, мягкие от времени ли, от освещения… И волшебный трепет причастности, когда он немой и покоренный стоит у порога. Сухонькая седая женщина с агатовыми от времени глазами тихо ему говорит, как напутствует: «Какой ты счастливый, Олежек, тебе еще столько в жизни предстоит прочесть, столько сделать открытий».
Поворотный диск сцены мягко стронулся на оси. Замелькали, набирая скорость, фанерные домики, палисадники и скамейки. Растянутые в движении лица вылетали с круга и пропадали во тьме. Из черной бесконечной дали надвигался обмороженный каменный дом. Окна его были пусты. Подминая шелуху декораций, он занял собой всю сцену. Над арочным сводом подъезда, это он помнил точно, висел безрукий алебастровый мальчик.
Дядька мой был профессиональный военный. Перед самой войной послали его служить на Дальний Восток. Ну и видно, с куревом там плохо было, попросил он в письме прислать ему папиросы. Разные тогда папиросы были — «Бокс», «Шахтер», «Ракета». Мать ему самых лучших «Шахтер», накупила, коробку такую из-под ботинок, и коробка на столе лежала день или два — соблазняла меня очень. Вот пришел из школы, второй класс уже, здоровый парень — и решил восполнить пробел в своем воспитании. Открыл пачку, размял папиросу, как взрослые делают, засмолил. Ну, а потом, само собой, раскашлялся чуть не до рвоты, пачку эту со злости схватил и зашвырнул за шкаф.
Ну, а в сорок втором в феврале, когда мы уже все барахлишко спустили, сидим вечером без света, в комнате мороз, лопать нечего, сидим и головы ломаем — где бы чего достать. Я-то ничего, как взрослый уже шел, все понимаю, не клянчу, а брательнику — два года, он еще дурак дураком, вынь да положь ему хлеба. Сидит на койке, обои рвет полосками и жует, плюется и опять жует, а в перерывах — орет, заходится. Ну а где же чего достанешь? В комнате один шкаф остался да койка железная, остальное все пожгли. И вдруг меня осенило: как сейчас помню, я очень спокойный сделался, ничем радость не выдал, говорю матери уверенным тоном: «У нас есть целая пачка сигарет, папирос то есть, папирос «Шахтер».
Табак тогда — о! — это было — все! Любой продукт за него — пожалуйста. Дороже хлеба, дороже конины.
Мы с ней — сразу к шкафу, чтобы сдвинуть. Но где там, доходяги, нам бы за него подержаться, чтобы не упасть, а брательник-то понял, что там еда, и в одиночку этот шкаф давит. Шкаф большой, зеркальный, он ручонками прямо в зеркало уперся и давит. А из зеркала кто-то ему сопротивляется. Он кричит на того из зеркала и давит, не отходит.
Ну, потом снизу палкой — рейкой, не помню уже чем, мы эту пачку выцарапали и стали семейным советом думать, на что менять. Бабка предложила хлеб, мама — масло. И на меня смотрят, мне решать. А для меня вопроса не было. Масло, растительное!
Пошли с мамой вдвоем. Одной я ей не доверил, обманут, думаю, не заметит. Она уж совсем плоха была.
Тогда пробовать разрешали масло. Не каплей, нет, мазнуть пальцем по капле можно было, если папиросы покажешь. Я раз пять лизал, вот этот, указательный. Наконец столковались с мужиком, на пол-литра. Мы ему папиросы, он нам бутылку, полную, из зеленого стекла. Я ее за пазуху, к телу поближе, будто она уже греет. Пришли домой. У матери розеточки для варенья сохранились. Такие плоские, розовые, в пупырышках. Сели мы вокруг печки холодной, мать всем разлила, кушайте! Тут братишка как заорет и розетку об пол. Что такое? Мужик-то, оказывается, тот вместо масла олифы нам подсунул. Когда подменить успел? Все же на глазах! Я потом брату палец дал указательный, рассказал, что на нем масло было. Он так и заснул с моим пальцем во рту.
3
Неприметно, словно волны за бортом, проносились мимо дни, ничем внешне не отличаясь, они складывались в недельные циклы, которые объединялись тем, что по понедельникам надо заводить каютные часы, в среду и воскресенье вместо чая к завтраку подавался кофе и, традиционный сыр — свои вехи быстротекущих дней. Глянцевый календарик под стеклом лежит без употребления. Такие календарики есть почти в каждой каюте. Это Миша Сундер сует их в Санта-Крусе, когда в его магазине берут товары. «Русский магазин Миши Сундера» — такая у него вывеска. Вроде бы он — одессит, вроде бы выехал до революции. В магазине торгуют его родственники, но все они почему-то индусы, и, какая с Одессой связь, наверно, одному Мише ясно. Вкусы своих покупателей Миша изучил досконально, все, что пользуется спросом, у него есть: пластиковые пакеты, фирменные рубашки, жевательная резинка, сигареты, косынки, мохер, одеяла с тиграми, зажигалки и джинсы, джинсы, джинсы разных форм, фасонов, расцветок. Даже о настроении моряков Миша заботился. «Для настроения» у него продавалась уморительная игрушка — хохотунчик «Санька». Стоило нажать рычажок, и Санька начинал заразительно смеяться.
На заход еще надеялись, и когда вахтенный штурман объявил, что в двадцати милях на траверсе — Гранд Канарио, погас не один вожделенный взор.
Ярцев усиленно занимался КЭТ, но продвигался вперед медленно. Когда он работал с установкой, для него не существовало другого мира, кроме КЭТ, ее узлов, панелей, блоков. Луч осциллографа высвечивал их глубинную зависимость. В тридцати оконцах испытательного прибора сжимались, расходились, пульсировали два прямых, как столбики, луча, отражая участки жизни двух громадных, железных ящиков, в которых был помещен «мозг». Временами Ярцеву казалось, что он сам становится придатком системы, одним из ее узлов, будто она окрутила его, опутала, всосала в хитросплетения своего нутра, запустила неведомые щупальцы ему в подкорку и хозяйничает там, решая посредством его какие-то свои задачи, и противится, скрывая от него ошибку, направляя по ложным следам.
Раньше ему никогда не приходилось так тесно соприкасаться с системой, и он часто отгонял от себя нелепую мысль о том, что, может быть, опасаясь двухстороннего влияния, фирма и рекомендует находиться около установки не больше трех часов подряд. Голова начинала пухнуть от бесчисленных связей, обилия сигналов. Он снова заходил в тупик.
Тогда он выключал установку и шел наверх, весь еще в ее власти, заглушая в себе вспыхивающее желание вернуться и проверить новую цепь. И только когда он вываливался на палубу и слепо жмурился от нахлынувшего многоцветия моря, он с некоторым удивлением вдруг ощущал, что находится посреди океана на железном судне, которое идет за рыбой, что жизнь на судне движется по заведенному порядку, что матросы кончили шкрябать правый борт и подмазывают суриком очищенные места, от чего судно имеет нездоровый вид, будто ребенок, больной корью. КЭТ удалялась от него вниз по лабиринтам трапа, за главный щит, туда, где ей и положено быть, и ее важность для жизни судна приобретала ровно то значение, которое ей придают: «палуба» даже не знала о ее существовании.