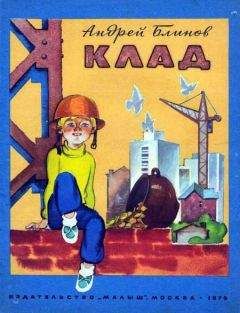Борис Блинов - Порт
Ситуация была незавидной. Он находился в положении врача, вынужденного лечить пациента, у которого все болит. Он даже у дока поинтересовался, как тот в подобных случаях поступает. «А это не женщина?» — спросил док. Ярцев подумал и сказал: — Скорее всего — мужчина, хоть зовется КЭТ». — «Тогда повез бы в ближайший порт». — «А если женщина?» — «Выписал бы на работу», — ответил док.
Оба варианта для Олега были неприемлемы. Оставалось только позавидовать доку, который имеет два таких определенных выхода.
— Ну, а если серьезно, — сказал док, — давно ведь известно, все болезни от нервов, кроме одной… В твоей этой химии я не очень разбираюсь, но если можно сравнить КЭТ с мозгом, тут я скажу, это мы проходили… Ты представляешь, что такое система? Ну так вот, организм и среда — это система. Если взять наше судно — это тоже система, то есть система — это определенная целостность, которая может существовать. Что делает мозг? — Он организует поведение этой системы так, чтобы вредные влияния среды ее не разрушили. Среда влияет на организмы, организм — на среду. Все эти связи идут в мозг…
— Это что же получается, — перебил его Ярцев, — организм меняет среду, если она его раздражает?
— Именно так. Иначе система погибнет. Ведь среда это не только окружающее пространство, это и те изменения, которые в нем происходят. Если ты, скажем, за борт свалишься, ты любым способом будешь наверх карабкаться, чтобы среду, в которой оказался, изменить. Но среда тебе сейчас не нужна, у тебя организм болен. Значит, отдели среду. Павлов, когда с рефлексами работал, считал, что должна быть полная изоляция от среды. У нас в физиологии как это делают? — дают наркоз, или спинной мозг перерезают, или корешки спинномозговых нервов — любым способом надо исключить действие обратных связей.
«А что, в этом есть свой резон, — подумал Ярцев. — Освободить КЭТ от влияния обратных связей. Станет намного проще искать». Доку можно доверять. Судя по тем слухам, которые ходили на судне, только какая-то случайность помешала ему защитить диссертацию, из-за чего он и оказался на флоте.
Ярцев настроил осциллограф, включил испытательный прибор, в «оконцах» которого вспыхнули зеленые сходящиеся лучи, и закрепил на нем карту сигналов.
Медленно вживался он в систему, словно крот, копая, углубляясь в материал схем, инструкций, описаний, откидывая назад просеянный грунт импульсов, сигналов, индикаций, и чем глубже он погружался, тем становился очевидней весь громадный объем предстоящей работы.
До ужина он работал, не вылезая из-за щита, стараясь не реагировать на телефонные звонки, на которые там, за щитом, кто-то отвечал, не отвлекаться на вой предупредительной сирены и щелчки включаемых автоматов.
Дед заглянул к нему за щит перед самой сменой вахт.
— Ха, вы здесь? — удивленно и радостно произнес он. — Знаете, как-то ощущается… Я тут перед щитом хожу и что-то меня одолевает… Чувствую, будто взгляд на затылке. Не по себе как-то. У нас никогда такого не бывало?
Ярцев распрямился, потирая затекшую поясницу.
— Что-то чувствительные мы больно стали, Василий Кириллович. Вы не находите?
— Может быть, ваша КЭТ на меня так влияет?
— От нее всего можно ожидать.
Ярцев щелкнул тумблером питания.
— На сегодня, пожалуй, хватит, — сказал он, глядя, как угасает в оконцах неоновый свет. Он вдруг представил, что если положить этот массивный прибор набок, он будет точной копией дома без архитектурных излишеств, дома, в окнах которого вдруг одновременно пропадает свет.
— Какая штучка у вас интересная. Чегой-то она делает? — наклонившись над прибором, поинтересовался дед.
— Наблюдает, что внутри этих шкафов происходит.
— Ну, а как там жизнь? Надежда-то есть?
— Одной надеждой и живем.
— Скажите, а нельзя ее как-нибудь к гаражу приспособить? У меня сосед, стармех, столько у себя всего накрутил! Я бы его этой штукой сразу убил, наповал.
— Можно, если только с высоты на голову.
— Жаль, не получится, — огорчился дед. — Сосед у меня высокий, а двери у гаража низкие.
— А что, надо его?
— Да пора уже. Он столько пароходов обобрал, что я думаю, мне бы ничего за него не было.
Дед любил побалагурить. Всю вахту он проводил в ЦПУ, давая возможность механику работать по своему заведованию. Четыре часа вынужденного молчания были для него тяжким испытанием.
— Жестокий вы человек, — сказал Ярцев. — Вас что, безнаказанность прельщает?
— В первую очередь. Ответственности мне на судне хватает.
С дедом у Ярцева сложились ровные, добрые отношения. Дед был всегда корректен, вежлив, обходителен, всех называл на «вы» и по имени-отчеству. Прекрасно зная машину, он все технические вопросы замыкал на себя и разрешал их всегда быстро и оперативно. Механикам с ним работать было одно удовольствие, хотя они порой и сетовали на отсутствие самостоятельности. Что же касается дел административных, организации службы — тут ему явно не хватало характера. Ремонтная бригада, в которую входили токарь, сварщик, слесарь, пальцем не хотела пошевелить без указания деда, и часто самое плевое дело превращалось в проблему. Деда приходилось тревожить по каждой мелочи. Но он словно рад был, всегда с готовностью спускался в машину, неизменно приветливый, в светлой ношеной «бобочке», в бумажных брюках с пузырями на коленях. И, спустившись, уже не вылезал из ЦПУ до конца вахты. Может быть, поэтому обстановка в машине была действительно мирной. При деде стеснялись ругани, крепких слов, и те нервные вспышки и мелкие ссоры, которые возникали в машине, быстро угасали, не успев перейти в затяжные конфликты, без которых в условиях долгого плавания редко обходится хоть один рейс.
Не только на машину распространялось влияние деда. Зная о его миролюбивом нраве, к нему часто обращались за разрешением спорных ситуаций на общесудовом уровне.
Помимо техснабжения судно везло для промысла картошку. И вот пять тонн ее оказались подмороженными. Старпом обвинял в этом рефмеханика, рефмеханик — старпома, платить за нее никому не хотелось. Когда капитан попросил деда быть судьей в споре и выявить виновного, дед, поговорив с поваром, решил так: виновных нет, недостачу до промысла можно покрыть за счет стола, потребляя вместо картошки крупы. «Нашли проблему, — с горечью произнес дед. — В Ленинграде блокаду пережили, а тут…»
Так Ярцев впервые услышал от деда про блокадный Ленинград, и теплое чувство близости шевельнулось в нем: Ленинград той поры не был Ярцеву чужим, хотя он почти ничего о нем не помнил.
Дед иногда зазывал Ярцева к себе, «скоротать вечерок», но последнее время Ярцев у него не бывал.
Дед совсем не умел пить, но почему-то на каждую встречу выставлял бутылку. Они выпивали по рюмке, и дед, мрачнея лицом и остро возбуждаясь, рассказывал ему истории о блокадном детстве. Ярцев слушал его внимательно и молчал. А дед, словно сам себя заряжая, схватив рюмку, опрокидывал ее между фразами, голос его крепчал, глаза набухали влажной краснотой. Ярцев видел, что ему больше нельзя пить, пытался отодвинуть от него бутылку. Но дед говорил «ага, давай», быстро плескал себе и продолжал говорить, уже сбиваясь, перескакивая на другие темы, но все так же без передышки, не давая Ярцеву вставить ни слова. Конец вечера, который переходил за полночь, завершался почти всегда одинаково: дед читал стихи Симонова о Леньке: «Раненый, но живой, нашли в сугробе Леньку с простреленной головой». Не стыдясь, не вытирая слез, дед кричал, разрубая воздух рукой: «Огонь! Летели снаряды. Огонь! Поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым».
«Это про нас, про меня», — на выдохе говорил дед, не сдерживая всхлипов. Потом падал потной головой на руки и долго не поднимался.
Наутро он болел и, стыдливо глядя в глаза, вымученно улыбался: «Бес попутал». Ярцев не мог видеть эту улыбку и, оберегая покой деда, под разными предлогами от этих вечеров отказывался.
Дождавшись, пока Ярцев наведет у шкафов порядок, дед вместе с ним вышел из-за щита.
— Я иногда смотрю и удивляюсь, как же мы раньше работали, когда не было всей этой вашей автоматики! А ведь неплохо работали. Вы ходили на промысловиках? Помните, как там жилось.
Да, это Ярцев помнил. Вроде бы совсем недавно (а уже десять лет прошло!) ходил Ярцев на тральщике РТ-211. Жизнь была — «из ящика в ящик». Из рыбного ящика, в котором он подавал на подхвате рыбу на рыбодел, в «ящик»-койку с высоким бортом. По четырнадцать, шестнадцать часов приходилось работать. От усталости прямо в ящике, бывало, падал в рыбу, и уснул бы в этой рыбе, если бы его не поднимали несколько луженых глоток.
— Вы меня понимаете, — сказал дед. — А Сивцов мне на днях заявил: «Разве это судно! Душа в каюте — и того нет!»
— Уголек бы ему покидать у топки, — поддержал деда Ярцев.