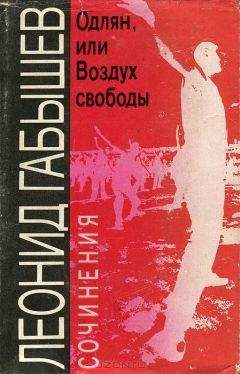Сергей Петров - Пора веселой осени
Он посидел молча и ответил:
— А ведь мне, Аверьяновна, сегодня уходить пора. Последний день отпуска.
Вяло поев, он вышел на улицу. Надо было подняться к Тамаре Сергеевне и сказать, что он уезжает, что пора ему на работу, но он никак не решался, как не решился сказать этого и вчера, все стоял на месте и рассеянно смотрел на мягкий свет озера за деревьями.
Наконец, нахмурившись, подумал: «А-а… Не за границу ведь уезжаю», — и стал подниматься по лестнице.
Тамара Сергеевна только и сказала в ответ:
— Раз пора… — она смотрела на него широко открытыми глазами.
Вот и осталось позади самое тягостное — разговор при прощании. Облегченно, испытывая к ней благодарность, он вырвал из блокнота листок, написал на нем свой адрес и номер телефона.
— Мои координаты… Всегда буду рад.
Глаза ее потухли, она усмехнулась и положила листок на стол.
Собрался Юрий Петрович к полудню. Тамара Сергеевна и Генка проводили его до дороги. Возле старой сосны он решил подождать попутной машины. Солнце ударяло вдоль дороги лучами, и твердая, обсыпанная иссохшей хвоей земля под ногами, большие камни в лесу, зазубренные листья папоротника выглядели добела раскаленными. Казалось, плесни в траву воду — и вода зашипит, поднимется белым облачком.
От зноя смолкли все звуки. Только в глубине леса долбил ствол дерева дятел. Тук… Тук… Стучал он редко, лениво.
Тяготясь молчанием, Тамара Сергеевна обняла Генку за плечи, притянула к себе и сказала:
— Как ты загорел, точно шоколадный. Даже откусить хочется, — она провела пальцами по его шее. — Старик ты мой.
У Юрия Петровича защемило в глазах. Он часто заморгал, отвернулся и посмотрел, не идет ли машина. Ее все не было.
— Может, пешком пойти? В пути нагонит…
— Здесь, в общем-то, недалеко… Десять километров, — сказала Тамара Сергеевна. — А машины не часто ходят.
— Тогда пойду, — он поправил плечом лямку рюкзака.
Зашагал по дороге, стараясь не оборачиваться. Но у поворота не выдержал, оглянулся.
Под сосной никого не было, и у Бухалова упало сердце. Он почувствовал себя одиноким в пустом лесу.
«Ну все. Ну и правильно», — сжал он скулы.
Дорога шла на подъем, из земли выпирали толстые корни сосен и острые края камней. Юрий Петрович запинался, скоро устал, часто обмахивал лицо носовым платком, вытирал потный лоб. Дойдя до ровного места, он бросил рюкзак под дерево, в тень, тяжело сел в траву и вытянул ноги.
Внезапно в дремотной тишине леса, далеко отдаваясь звонким эхом, лопнула ветка бурелома. В чаще жалобно вопросили, по-стариковски шамкая:
Где ж тренироваться,
Милый мой дедочек?
Где ж тренироваться,
Сизый голубочек?
Лес назидательно откликнулся на этот странный вопрос десятком сильных мужских голосов:
В турпоходе, бабка!
В турпоходе, Любка!
В турпоходе, ты моя
Сизая голубка!
На дорогу вышли горбатые от рюкзаков туристы, встали друг другу в затылок и строем пошли дальше. Последний увидел Бухалова и спросил:
— Отстал от своих, товарищ?
— Нет. Они меня догоняют, — ответил Юрий Петрович, но тут же, уловив постыдное в своих словах, провел пальцами по глазам и сказал: — Отдыхаю вот.
Проводив взглядом туристов, он резко встал и пошел дальше.
Больше Юрий Петрович не останавливался до самой станции. Шагал он быстро, словно и правда убегал от чего-то. От жары мягко сжималось сердце и слабели ноги. Сильно захотелось выпить, и он, войдя на станции в небольшой вокзальчик, повернул машинально налево, а когда обнаружил буфет именно здесь, то удивился, но потом усмехнулся, поняв, в чем дело: в его проекте буфет-бар — утешение для отъезжающих и провожающих — тоже находился слева от входа.
Буфетчица налила ему полный стакан пахучей коричневой жидкости, и он залпом выпил.
Сидя позднее в электричке, Бухалов вслушивался в успокаивающий стук колес, задремывал, устало прижимался плечом к стенке вагона, мерно покачивал головой и, упрямо гоня из головы все другое, вяло думал:
«Приеду, отдохну — и возьмусь за проект».
ЕГО РУКИ
Все утро в тополях шумел дождь. Теплый, он долго полоскал листву, мыл окна барака, вычернил его стену и насквозь пропитал влагой воздух.
Волков распахнул окно, высунулся наружу и прищурился, приглядываясь к погоде.
Тополя перед бараком стояли прямые, высокие. Ветки их ложились на крышу и скребли по мокрому железу. В просветах между ветками виднелось низкое набухшее небо. Размытое дымное солнце поминутно ныряло в тучи, словно купалось в них, и светило тускло, как сквозь матовое стекло; лучи его, редко пробиваясь на землю неяркими вспышками, отвесно падали в листву тополей, на миг покрывали ее серебром, но, слабые, быстро гасли там.
С тополей вот уже несколько дней опадал пух.
Вчера пушинки густо метелили в воздухе. Сегодня их было мало. Они серели, никли, сворачиваясь, словно таяли, еще не долетев до земли. «А ведь большие вымахали…» — подумал о тополях Волков.
Время, когда сажали деревья, вспомнилось с трудом. Раньше здесь, между двумя бараками, лежала гулкая площадка. «Колонийская труба», — называли это место заключенные. Сюда стекался воздух со всей колонии. Он тек по площадке, гудя, как в большой трубе, вздымал бумажки, приплюснутые окурки, заметал их к бараку… Потом сюда завезли тополя-трехлетки и вывалили на середину площадки. Они лежали там три дня, растопырив черные от земли корни, и выглядели помертвевшими, только в чуть припухлых липких почках теплилась жизнь.
Сажали деревья всем отрядом.
Волков копал в утоптанной, плотной земле ямки, и ему казалось, что черенок лопаты, как рашпилем, дерет руки. Он зло думал о том, что к вечеру ладони начнет припекать, у пальцев вспухнут белые водянистые мозоли, и ругался вполголоса:
— Колупай тут землю, а калым — кусок моченой трески на ужин.
Тяжеловес Петька Коготь возражал:
— Работаешь не за ради калыма. Оно жить веселей станет, как замаячит перед глазами зелень.
— Да ведь расти, гады, не будут. Зряшный труд: не земля, а бетон.
— Э-э… Не скажи-и, — терпеливо разъяснял Коготь. Тополь хошь в какую землю посади, кверх корнями сунь, все одно расти будет.
Иногда из барака выходил старик Филин. Он стоял у дверей, широко расставив большие ноги, держа прямо костистые плечи, и, наклонив большую лысую голову, смотрел на работу. Увидев брезгливо кривящиеся губы Волкова, он сипло смеялся:
— Глядь, Борик-то червя схавал.
Волков отшвыривал лопату, развязно говорил Филину:
— Дай задымить.
Филин протягивал кисет с махоркой.
— Ай, пупок надорвал, что отдохнуть захотелось?
Волков молча крутил самокрутку, быстро перебирая тонкими нервными пальцами, садился на корточки, прислонялся к дощатой стене барака, взахлеб курил и недовольно бурчал:
— От работы кони дохнут.
Старик весело дергал головой, запахивал на груди телогрейку, засовывал под мышки красные руки и уходил, чуть косолапя, в барак, бросая на прощанье:
— Копайте, детки, копайте: работа фартовая.
Со своего места Волков видел, как Петька Коготь, провожая старика потемневшими глазами, с силой сжимал крепкие челюсти.
— Доходишься, — долетали до него слова Когтя.
— А если услышит старик? А? — подмигивал ему Волков.
Петька мрачнел лицом и огрызался:
— Пусть слышит. И до него доберутся.
— Кто? Ты, что ли?
— Ну, может, и я…
— Вот как… Давай, давай.
Смешными казались Петькины угрозы. Филина все знали как старого авторитетного вора, а Коготь отбывал срок наказания только за то, что вынес с элеватора на своих широких плечах мешок муки.
Весь день он подмигивал Когтю, повторяя одно и то же:
— Ну, что ж ты? Давай…
Коготь только тяжелей налегал на лопату. Работал он остервенело, а когда посадил последнее деревце, то вытащил из кармана носовой платок, оторвал от него узкую полоску и обвязал ею ствол.
— Буду смотреть, как оно в рост пойдет.
Тряпочка эта давно отпала от дерева, а сам Петька Коготь вот уже год, как на свободе — работает на заводе электросварщиком. Недавно писал Волкову, звал к себе: электросварщики, мол, позарез нужны.
А сегодня освобождается и Волков. Ждет сейчас, когда выпишут справку об освобождении.
Утром он долго брился, поставив круглое зеркало на деревянную полочку в умывальнике, щупал мягкие щеки, острый подбородок — чисто ли выбрился? — до скрипа мыл лицо.
Потом укладывал чемодан.
В бараке было пусто: все ушли на работу. Только Филин остался дневальным по бараку и сидел в дальнем углу на табуретке.
За двухъярусными кроватями, заправленными легкими байковыми одеялами, старика не было видно, но Волков все утро ощущал на себе взгляд его круглых, в красных прожилках глаз. Взгляд этот точно лип к нему, и Волков отчетливо представлял, как поворачиваются глаза старика, следя за ним.