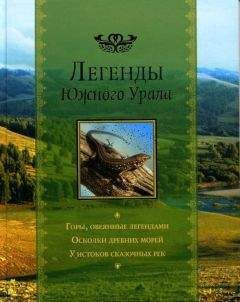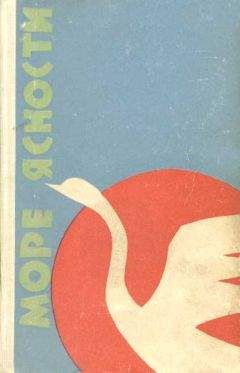Лев Правдин - Берендеево царство
Я помню, какие мы закатывали диспуты, обсуждая отношения Даши и Глеба из гладковского «Цемента», как мы нещадно спорили о поведении героев модных тогда книг «Коммуна Мармила», «Без черемухи», «Виринея». Еще круче от нас доставалось героям классической литературы: с ними мы совсем уже не церемонились и, невзирая на их общественное положение, выволакивали на суд. Судили Печорина, графа Вронского и разночинца Базарова, но особенно почему-то повезло Евгению Онегину, которого судили много и часто, почти во всех комсомольских клубах.
Но истины мы так и не открыли. Дружно разоблачив растлевающую мораль буржуазного общества и точно определив, какой должна быть наша мораль, мы все же остались в полном неведении относительно любви — что это в конце концов: высокое чувство или естественная необходимость.
В одной комсомольской газете, где я работал, совсем недавно мы даже поместили статью некоего расторопного врача-общественника доктора Брукмана «Пробный брак». Из самого заголовка ясно, что это такое: молодые люди, прежде чем навеки связать свои судьбы, должны пожить так, не объявляя себя мужем и женой. Если это им понравится и они придут к мысли, что они подходят друг к другу, то только тогда можно пожениться. Такой способ, по мнению доктора, способствовал созданию крепкой семьи. Развернулась дискуссия, кое-кто от слов перешел к делу, в редакцию шли письма, и мы; не сразу догадались, куда мы залезли в поисках новых отношений. А потом оказалось, что доктор Брукман вовсе не доктор, а бывший белый офицер, который присвоил документы расстрелянного им же настоящего доктора Брукмана.
Мы строили новый, свободный мир, мы искали новые человеческие чувства и отношения, но путь наш, как у всех ищущих, был извилист и проходил по сильно пересеченной местности.
В одном волостном селе, куда я как-то приехал по своим газетным делам, секретарь комсомольской ячейки сказал после собрания: «Ты вон к той девчонке иди ночевать, она ждет».
Мы тогда не догадывались, что это нам мстит, путаясь под ногами, как раз то самое старое, так люто ненавидимое.
Все это было очень недавно и со мной и со многими моими друзьями, и вот я сейчас, в самом конце двадцатых годов, слушаю, как звенят стекляшки люстры от Зинкиного смеха, и размышляю о любви; что это такое.
Я очень люблю Маяковского, верю каждому его слову, и меня до гордости восхищает его чудесное умение выбирать слова и расставлять их с особой ударной силой.
А у него о любви:
А я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
Мария — дай!
Как надо любить! С каким восторженным недоумением смотреть на любимую, чтобы иметь право так ей сказать!
А у меня этого права нет, и я совершенно бесправно думаю о Зинке, с тоской, от которой цепенеет тело. А на старом гостиничном матраце еще не разгладились вмятины от крутого Зинкиного тела: «Хлеб наш насущный»…
Я пнул ногой кровать и пошел в столовую.
3Столовая помещалась здесь же внизу. До революции тут был ресторан «Венеция». Потому и гостиница тоже называлась «Венеция». Так ее все и продолжают называть, хотя черная вывеска над крыльцом утверждает, что это «Дом крестьянина № 1 Горкомхоза».
В столовой завтракали ребята с тракторных курсов. Они сосредоточенно доедали гуляш с пшенной кашей. Ели дружно и в полном молчании, как привыкли есть у себя в деревне, собираясь на работу, когда все едят из одной чашки, и если зазеваешься — голодом насытишься.
Такова одна из многих привычек, с которыми они пришли на курсы. Тут новая жизнь, и у каждого своя тарелка, можно бы и не спешить, но привычка, как кошка при переезде: ее первую пускают в новую избу. Кошка — символ домашности. Старые привычки долго еще живут с нами, и мы их подкармливаем и даже ласкаем, разнежившись.
— Как жизнь? — спросил я по дороге к окошку, откуда усатый завстоловой сам выдавал еду. Зная, что ответа не будет до конца трапезы, я сразу добавил: — Приятно вам жевать…
Ваня Гавриков как раз покончил с гуляшом и, придвигая к себе стакан мутного компота, торопливо проговорил:
— А у нас не жуя пролетает.
Ваня Гавриков — все зовут его просто Гавриком — только что единым духом вытянул стакан компота и сидел отдуваясь. В его глазах — томность, свойственная заласканному деревенскому гармонисту. А в самом деле он, веселый, легкий характером парнишка, только что не в меру балованный — властитель девичьих мечтаний.
Ему и в городе жилось проще и легче, чем остальным. Всегда найдется кому и белье постирать, и кудри причесать. И просить не надо, сами навязываются. Тракторная наука давалась ему легко, может быть потому, что он к ней подходил без робости, а все с той же снисходительностью.
Гаврику еще не исполнилось семнадцати лет, и у него нежный певучий голос. Растягивая слова, он ответил на мой вопрос:
— Мы-то ничего, мы живем. А Семка Павлушкин утек.
Тарелка выскользнула из моих рук, хорошо, что над столом.
— Как «утек»?
— Сбежал. — Гаврик рассмеялся и развел руками. — Утром проснулись — нету его. И торбочки нету. Утек, совсем…
Рядом с Гавриком сидели Ольга Дедова и Гриша Яблочкин. У Ольги круглое скуластое лицо, очень загорелое, обветренное и выгоревшие на степном солнце брови и ресницы. У нее чудесные карие глаза, переливающиеся глубоким мягким светом. Темные волосы коротко, по-мужски острижены.
Она взглянула на Гришу, и мне показалось, что она презрительно улыбнулась. Презрительно или тревожно, я не разобрал и потребовал ответа:
— Почему сбежал?
Гриша отчужденно молчал и Ольга тоже. Но для меня было ясно: они все знают о бегстве и, может быть, даже сами помогли Павлушкину, хотя бы только тем, что не сумели его удержать.
От соседнего столика подбежал Митька Карагай, оренбургский казачишко, темнолицый, горбоносый, всегда готовый вспыхнуть, как головешка на ветру. Казачишко из самой станичной голи, он мне рассказывал, что когда его батьку снаряжали на войну, то коня ему покупали на общественные деньги. Своих-то у них никогда не водилось.
Он подбежал ко мне:
— Сбежал! Зачем так говоришь? Ушел человек. Хочет — живет, не схотел — айда в степь! Сбежал…
— Постой, Карагай, не тарахти. — Гриша отставил стакан и спросил у меня: — Ты сам-то почему на занятия не ходишь?
— А я и не обязан.
Я сказал глупость и сразу это понял, потому что все посмотрели на меня с сожалением, а Ольга все еще продолжала неопределенно улыбаться. Да, верно, я не обязан посещать все занятия, но я обязался вместе со всеми успешно закончить курсы, получить права. И, кроме всего, я должен помогать всем остальным. Это уж само собой.
— Трактор я освою…
Гриша согласился:
— Правильно, ты освоишь. Ты грамотный. Девять классов прошел. А Павлушкин девять лет на кулацких загонках науки проходил. У него башка-то вот как этот стол, без молотка ни черта не вобьешь.
— Верно говоришь! — заорал Митька Карагай.
А Ольга, все еще не переставая улыбаться, проговорила негромко, но с обезоруживающей бабьей жалостью:
— Ох и дурни вы все. Разве в том дело…
— А в чем же?
— Если бы я знала!..
— Не знаешь — не вякай!
Ольга оттолкнула Митьку, и, видно, рука у нее оказалась тяжелая: только у соседнего столика подхватили его товарищи и усадили на стул. Он сейчас же кинулся обратно. Но вокруг Ольги собрались трактористы, начался шум, а она возмущенно кричала на всю столовую:
— Не знаю, а молчать не буду. Промолчали Павлушкина. Кричать надо на всю степь.
— А про что кричать-то?
— Всем трудно.
— На чужую башку не сваливай, если сам дурак!
Из кухни выглянул завстоловой, послушал и скрылся. Через минуту он снова появился, но уже с экспедитором совхозной базы Грачевским. Послушали вдвоем. Экспедитор одернул свою гимнастерку и решительно двинулся к трактористам.
— По какому случаю сходка? — грозно спросил он.
— Павлушкин утек, — пропел Гаврик, — совсем, и с торбочкой.
— Утек? — Грачевский задумался, потом почему-то засмеялся, потом сострил: — Утечка, значит, усушка. — И снова грозно приказал: — По местам. В этом вопросе начальство разберется.
Накинув платок на свои стриженые волосы, Ольга скомандовала:
— Пошли, ребята, к начальству, а то они там и в самом деле разберутся без нас.
Она пошла к выходу, за ней потянулись остальные. Я остался доедать завтрак.
Увидев меня, Грачевский снял фуражку.
— Почтение особоуполномоченному. Женотдел-то как взбрыкивает.
— Какой женотдел?
Я отлично знал, о ком он говорит. Всякий раз, когда приходилось говорить с Грачевским, мне хотелось хлестнуть его обидным, резким словом. И в то же время мне делалось неловко за то, что он может догадаться об этом. Тогда я терялся и начинал отделываться незначащими фразами. Может быть, за то я презираю себя каждый раз, когда мне приходится сталкиваться с Грачевским. Он — хам и подхалим, но со мной разговаривает так, что придраться не к чему.