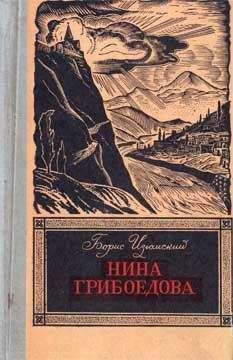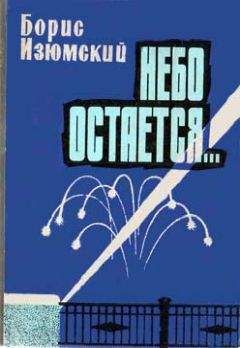Борис Изюмский - Призвание
Кое-кто помялся, пробурчал: «А если способности средние?» — но руку за это предложение подняли все.
— А теперь подумаем о плане работы. Вы, Долгополов, хотите что-то предложить?
— Да, — поднялся Виктор. — Хорошо бы, Сергей Иванович, кино-вечер устроить. Показать фильм «Петр I», выставку в фойе сделать…
— И чтобы консультант от кружка сидел, на вопросы отвечал, — не выдержав, перебил Виктора Костя Рамков.
— Верно! — согласился Долгополов и кротко посмотрел на Костю, словно ждал, не будет ли тот еще говорить, но Костя, сам недовольный тем, что выскочил, нахмурился. — И потом интересно было бы, — продолжал Виктор, — писать историю нашего города.
В это время в коридоре школы директор с недоумением спрашивал у Толи Плотникова:
— Ты почему здесь так поздно?
— У нас кружок «Умелые руки», мы с Серафимой Михайловной карту делаем, — поднял Плотников вверх лицо со свежей глубокой царапиной во всю щеку и вдруг с гордостью сообщил:
— Борис Петрович, у меня двоек нет!
— Вот это молодец! — воскликнул Волин. — Порадовал, право порадовал! Передай маме: директор похвалил, сказал, что ты честный человек. Ясно?
— Ясно, — блаженно улыбаясь, подтвердил Плотников.
— А теперь достигай следующей высоты, чтобы троек не было!
— Трудно! — вздохнул Толя и потупился.
— Не спорю! «И косить тяжело, и копнить тяжело, только спать легко, да не нанимает никто!» Верно? — смеясь одними глазами, спросил директор.
Толя понимающе улыбнулся, воинственно выпятил грудь и убежденно воскликнул:
— Достигну! Вот посмотрите, Борис Петрович, — достигну! — И почему-то добавил: — А я с Леней Богатырьковым и Борей Балашовым дружу, они у нас были дома. Старшие товарищи!
— Добрые друзья! — похвалил Борис Петрович. — Ну, желаю успеха!
«Ишь ты… Старшие товарищи… Умеет сказать! А недавно заявил: „Бояре подстригли Шуйского под монаха“. Резонно. Если можно подстричь под бокс, то почему нельзя под монаха?»
Он пошел дальше и не видел, как Плотников от избытка переполнивших его чувств подскочил а дернул себя за ухо.
* * *К восьми часам вечера школа погружалась в тишину. Уходил дежурный учитель, сделав последние записи в журнал, группами, оживленно обсуждая что-то, спускались по лестнице запоздавшие ребята. Хлопала внизу дверь. Фома Никитич начинал свой вечерний обход.
После восьми часов он становился, по его собственному выражению, «ночным директором». Ему оставляли «всю секретную часть», — ключи, и он, позванивая ими, раза два в течение ночи делал обходы: не попахивает ли где гарью, нет ли подозрительного шума? Сейчас он проверил, везде ли потушен свет, набросил громыхающий крюк на выходную дверь и ушел в свою комнатку.
Школа отдыхала.
Через два-три часа по домам уснут и ее неугомонные питомцы, и только учителя еще долго будут сидеть за своими рабочими столами, составлять конспекты уроков, проверять тетради.
Фома Никитич, придя в свою комнату, сказал удовлетворенно жене, вешая пиджак на спинку стула:
— Все в порядке… Объявляется перекур с дремотой…
Он снял ботинки, улегся в пестрых, старательно заштопанных носках на высокую, с широкими спинками, кровать, покрытую серым, почти до пола свисающим одеялом.
Протянув сухонькую руку к бра над кроватью, зажег свет, упавший ярким кругом на подушку, и, привалившись к матерчатому коврику на стене, стал читать вслух роман.
В комнате вкусно пахло печеным хлебом, громко постукивали ходики на стене. Фоме Никитичу не читалось: скучно без газет. Понедельник был самым нелюбимым днем его. Фома Никитич считал себя большим знатоком политики, знал названия партий и газет буржуазных стран, хорошо понимал десятки мудреных фамилий, любил делать политические прогнозы, комментировать Лукерье Ивановне международные обзоры, или поддразнивать ее, затевая антирелигиозные диспуты. В таких случаях она сердито говорила:
— Молчи уж лучше, шалаш некрытый. С тобой говорить, что кнутом по воде бить.
Отложив роман, Фома Никитич включил радио и добродушно предложил:
— Танцуй, бабка, што ж музыку даром расходовать! — и, довольный своей шуткой, расхохотался.
— Залился, залился, пустосмех, — начала беззлобно пробирать его Лукерья Ивановна, но Фома Никитич в последние годы стал туговат на ухо, особенно в сырую, как сегодня, погоду, и обращал внимание на воркотню супруги не больше, чем на жужжание мухи. Лукерья же Ивановна, вдоволь отчитав мужа, усмехнулась:
— Благодать: и душу отвела, и человека не обидела…
Пришел в гости завхоз Савелов. Сели пить чай.
Фома Никитич, аппетитно отхлебывая с блюдечка и придерживая его снизу растопыренными пальцами, говорил внушительно:
— Наш-то директор, Борис Петрович, — правильный человек. Школа, как тот смазанный механизм работает.
Он звонко откусил крепкими зубами кусок сахару и, пососав его, солидно продолжал:
— Мне вчерась говорит, наш-то директор, — не думайте, говорит, Фома Никитич, что вы есть винтик небольшой, неважный, — от вас многое зависит…
Он помолчал и значительно подтвердил:
— Еще ба! Стою на ответственном посту.
Фоме Никитичу на мгновенье представилась сияющая от восторга рожица Толи Плотникова, когда тот подбежал недавно к нему: «Фома Никитич, Фома Никитич, я по географии пять получил!» Он его тогда еще похвалил: «Молодец, Плотников, я же говорил, что у тебя голова, как у того министра. А ты кем полагаешь быть, как подрастешь?» — «Первым помощником Сталина!» — ни на секунду не задумываясь ответил Толя. — «Хорошее дело задумал», — одобрил Фома Никитич.
Старик при этом воспоминании улыбнулся и веско повторил, глядя на гостя:
— Свой ответственный пост имею.
— Да вы, Сидор Сидорович, вареньица побольше берите, — пододвинула вазочку Лукерья Ивановна.
— Благодарствуйте, — деликатно покашлял Савелов на тыльную сторону ладони и вытер большим платком широкое с красноватым отливом лицо.
Фома Никитич придвинулся к гостю вплотную, испытующе посверлил его маленькими глазками.
— Как полагаете, Сидор Сидорович, кто воспитал, к примеру, таких, как Гастелло? А?
Савелов посматривал выжидающе, знал, что отвечать в таких случаях не следует.
— А вашего сынка Петра инженером кто сделал? — продолжал допытываться Фома Никитич и после паузы убежденно воскликнул:
— На-аши ж! Учителя! Я считаю, — от их работы все будущее в полной зависимости. Верно? Скажем, вы и я — образования не получили… не дали нам его те буржуи… А теперь, — Фома Никитич приблизил свое лицо почти к самому лицу собеседника, всматривался в него несколько секунд и, откинувшись на спинку стула, закончил — всеобщее образование! Я в газете прочитал: двести тысяч школ у нас в Советской России. Шутка сказать — двести тысяч!
Он разгладил седые свисающие усы.
— Хочу я, Сидор Сидорович, — старик строго посмотрел на жену, предостерегающе свел на переносице седые брови, словно этим давал понять, что здесь уж не потерпит никаких возражений, — хочу письмо написать самому товарищу Швернику Николаю Михайловичу. Напишу: сорок один год в школе работаю… Досконально знаю, как учителя наши трудятся… знаком… и надо, Николай Михайлович, указ такой издать, чтобы учителям звание Героя Труда присваивали. Верно?
— Оно так, — согласился гость, — но только затруднительно определить качество. Скажем, зерно — это понятно: влажность, сорность… Или, к примеру, прокат стали…
— И здесь все ясно! — решительно прервал Фома Никитич, — Серафима Михайловна наша сколько людей достойных воспитала? Это вам качество? Есть у нее и герои, и ученые, — и никакой сорности. Или взять Бориса Петровича… — Фома Никитич опять подошел к излюбленной теме, и Лукерья Ивановна только поспевала подливать мужчинам чай.
* * *…Закончив занятие с кружком, Кремлев вышел с несколькими ребятами из школы на улицу. Они проводили его до трамвайной остановки, подождали, пока сядет, и дружной ватагой двинулись в противоположную сторону.
— Он мне нравится, — словно продолжая ранее начатый разговор, признался Виктор Долгополов. Виктор не назвал имени Сергея Ивановича, но все поняли, что Долгополов имел в виду его.
— Резкий, — мимоходом, не настаивая особенно на своем мнении, бросил Балашов и начал что-то независимо насвистывать.
— С такими деточками, как мы, не только резким будешь — из себя выйдешь, — возразил Виктор и повернул к Борису свое круглое добродушное лицо. — Но зато Сергей Иванович не заигрывает… и нет у него казенщины. Когда мало — деловой и строгий, и всегда отзывчивый, как отец…
— И слов зря не тратит, а учит, — подтвердил Костя, стремительно перебросил сумку из правой руки в левую, — не то, что француженка — Капитолина, как заведет, как заве-де-ет свою машину: «Тише, тише, сколько раз вам, говорить… Почему вы такие несознательные? Вы уже не маленькие», — тошно слушать! А иногда мед точит, вроде она такая добрая: «Мальчики, перестаньте», — за нее стыдно!