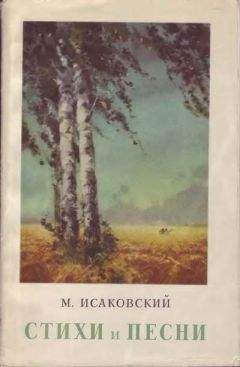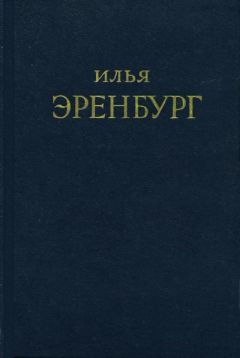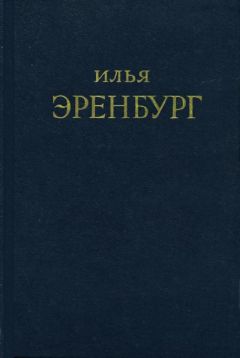Фёдор Гладков - Вольница
Косой с растерянным изумлением ухмыльнулся, вытер рукавом нос и посмотрел на рубаху, нет ли на ней крови.
Девчонка подхватила меня под руку и, расталкивая ребятишек, повела дальше по дощатому тротуару. Косой хрипло погрозил сзади:
— Ну, помни, бродяга: появишься здесь — живым не уйдёшь.
А девчонка обернулась и сердито откликнулась:
— Тебе самому сопатку расквасили. Грозить-то и дурак умеет, а ты сумей человеку в беде помочь!
Должно быть, девочка была самостоятельная и опытная — такая же, как Дунярка, и в голосе чувствовалась умная воля, уверенность в себе и знание жизни. Конечно, у себя дома она — тоже сила и не хуже матери справляется с хозяйством. Из открытого окна опять крикнул нетерпеливый голос женщины:
— Агашка, тебе говорят — иди домой! Сколько раз тебя звать надо?
— Сейчас! Иду! — открикнулась моя провожатая и засмеялась. — Ужинать мать зовёт. Она без меня и на стол не соберёт. Больная. А папаша меня и пальцем не трогает. Он на мамку рукой махнул: на меня только и надеется. Ну, так вот, соколок: иди по этой улице до конца, упрется она в монастырь, ты у монастыря-то сверни налево. А там иди-иди — и выйдешь на пустырь. За пустырём и будет кладбище. — Она протянула мне руку и опять засмеялась. — Прощай! А здорово ты нашему косому нос утёр.
Я пожал ей руку и растроганно пробормотал:
— Спасёт тебя Христос… Я сроду тебя не забуду…
— Да ты чего? — захохотала она. — Монах ты, что ли? Христа-то зачем впутал? У меня папаша говорит, что Христом-то обманщики да пройдохи промышляют. Надо говорить: спасибо!
— Ну, спасибо. Только у нас в деревне так не говорят: спасибо-то — к бесу.
Поражённая, она шлепнула ладошками и захохотала.
— Потешный ты какой! Тебя и слушать-то интересно. Ежели у нас здесь будешь, спроси Агашу Щукину, меня все здесь знают. В гости заходи.
Я уже знал дорогу к дому: мы не раз ходили с матерью по улице, где тянулась длинная стена монастыря. Синяя колокольня была видна из нашей улицы.
Теперь я шёл уже уверенно и бойко и чувствовал себя вольготно, словно выбрался из густого леса после долгого блуждания. Казалось, что за это время я стал старше, сильнее и смелее. Теперь я уже не пропаду в городе, и он уже не страшен своей громадой, запутанными улицами и жуткими расстояниями. Я уже твёрдо знал, что где бы ни очутился — всё равно найду дорогу. Здесь тоже есть задиристые парнишки, которые нахально лезут драться, но они уже казались мне смешными: не нужно только робеть и показывать свою беспомощность, а дерзко наступать на них и держать кулаки наготове. И вспоминая о последней встрече с ватагой ребят, я смеялся: как я ловко смазал этого забияку его же кулаком! В городе, оказывается, есть и хорошие люди. Парень в шляпе — добрый и весёлый, похожий на Тришу. Он, должно быть, любит петь песни, а в сад шёл, чтобы потанцевать под музыку. А вот Агашка сразу вошла в душу, как родная. Она не бросила бы меня, как Дунярка: увидела, что я один и беззащитен, что я плутаю по незнакомым улицам, где на меня могут напасть драчуны, и сразу же кинулась мне на помощь. Если бы я попросил проводить меня до самого нашего двора, она пошла бы со мной охотно, несмотря на крики матери. А Дунярка думает только о себе и любуется собою. Она извивается змейкой и усмехается ядовито-ласково. Зачем она скрылась от меня? Должно быть, хотела отомстить — наказать меня за то, что я напал на неё за цветок, который она украла у цветочницы. А может быть, она стеснялась ходить со мной по саду? Ведь она была городская, а я — вахлак деревенский; она вертелась, ломалась, вскидывала голову и нюхала розочку, как барышня, а я глазел на всё, как простачок, да и одет был по-деревенски — в пунцовой поношенной рубашке с поясом из мочалы, в портках, а волосы острижены в кружок. Она привередливо посматривала на меня в саду, фыркала и учила, как надо ходить, как разговаривать, как обращаться с ней, а я злился, мне было противно её кривлянье. Ясно, что она хотела поиздеваться надо мною — пускай, мол, поплутает по городу, пускай, мол, одни добирается до дому, ежели не хочет слушаться.
Но я в этот день открыл одну важную для себя истину: хотя город и большой и много в нём улиц и переулков, где можно легко заблудиться, хотя людей тут — тьма тьмущая, и все они чужие, неизвестные и не похожие на мужиков, но они как будто не видят друг друга, и в то же время им приятно гулять толпами. Парни не цапали девок, а они не визжали и не корчились в их руках. Здесь, в саду, каждый как будто старался быть пригляднее и лучше, и толпы шли вереницами навстречу друг другу, своей сторонкой, не толкаясь, не озорничая, а если люди задевали плечами один другого — извинялись и даже кланялись друг другу. Правда, парнишки и здесь враждебно задирали новичков, как меня, но в саду и они были смирные и переставали замечать друг друга. В деревне парни и мужики любили натравливать ребятишек на драку и любовались их вознёй. А здесь совсем чужой человек разогнал ораву озорников и участливо разговаривал со мною, да ещё рассказал мне, как найти дорогу к тому месту, где я живу.
Когда я свернул на свою улицу и в фиолетовых сумерках увидел свои ворота с двускатным козырьком, неожиданно обняла меня за шею Дунярка. Она радостно засмеялась.
— А я, Федяшка, нарочно от тебя скрылась-то. Не от сердца, не со зла, а чтобы поглядеть, какой ты в беде гораздый.
Я сбросил с себя её руки и оттолкнул её.
— Не подходи ко мне, трещотка! Я с тобой больше не дружу. Я тебе не кутёнок, чтоб ты мордовала меня.
Но она не обиделась и смотрела на меня с лукавой игрой в глазах.
— Да чего ты злишься-то, Федя? Я тебя сейчас ещё больше полюбила и прямо за тебя в огонь и в воду полезу. Ежели бы ты голову-то потерял да заметался от страху, я сразу бы к тебе бросилась.
Я мстительно усмехнулся и съязвил:
— Да на кой ты мне нужна-то? Ты только прыгала всю дорогу, как собачонка. А я не маленький и не в лесу: у меня и глаза, и кулаки, и язык есть. Эка, подумаешь, беда какая! Заведи меня куда хошь — я дорогу найду и никого не боюсь. А ты ещё куклами тешишься.
И я победоносно пошёл через дорогу к воротам, форсисто склонив голову к плечу, как отец.
Дунярка подбежала ко мне и, задыхаясь, схватила меня за руку.
— Ой, Феденька, как я прогадала-то!.. — виновато затараторила она. — Не сердись ты на меня, размиленький. Будешь сердце на меня иметь — разнесчастная буду и исплачусь вся. Чай, я это любя сделала. Думала: вот, мол, он упадёт духом, позовёт меня — а я тут как тут перед ним. А ты вон какой! И с озорниками сладил, и с людями обошёлся… И шёл-то как резво, словно червонный валет! А я в дурах осталась. Давай, миленький, помиримся.
XI
Никогда ещё я не видел мать такой весёлой, беспокойной и хлопотливой. Глаза её стали ещё круглее, в них играла затаённая радость и что-то похожее на переливы воды в родничке. Утром она нарядилась и, прихорашиваясь, бегущей походкой ушла в город. А мы с Дуняркой сидели за каретником, и я учил её читать. Она необычно робко и виновато слушала, как я называл буквы, тыкая в них пальцем, и строго приказывал ей повторять их за мною. Когда она ошибалась и забывала их, я сердился, и она в отчаянии лепетала:
— Беспонятная я какая! Буквы-то у меня, как мухи летают, и ни одну не поймаешь. А ты их, как бисер, перебираешь и слова говоришь. Чудо-то какое!
Я видел, что Дунярке скучно, что ей хочется играть и выдумывать что-то новое, интересное, и беспокойное. Она непоседа, любит толкаться среди людей, горячо хватается за работу и соревнуется в быстроте и со мною, и со взрослыми. Она жадно слушает россказни Манюшки и очень живо изображает барынь и купчих и передразнивает их, как будто не мать, а она проводила с ними время. И это выходило у неё так хорошо, что мы покатывались со смеху, а Манюшка кудахтала:
— Актёрка ты, Душка, чистая актёрка. Ну, прямо они у тебя всамделешные! Ежели бы они увидали… ух, в обморок бы упали! — И с притворным недовольством совестила её: — Не делай этого… не греши, Дунюшка. Они благо нам делают, а ты их насмех поднимаешь.
И я удивлялся, почему Дунярка запоминает всякую чепуху, замечает в людях их смешные и забавные стороны и в танцах сразу подхватывает самые сложные движения, а ни одна буква не держится у неё в голове.
Мать пришла с покупками, весёлая, праздничная, и похвалилась мне:
— Всё купила, что надо: и коленкору, и бумазеи. И тебя наряжу. Отец сам выбирал и денег не жалел. К Раисе пойдём.
Я даже подпрыгнул от радости.
— Нынче же пойдём… сейчас же…
Из-под вешелов вышла Степанида, тяжело волоча больные ноги, и с угрюмой усмешкой ткнула в бумажный свёрток кривыми пальцами в шрамах.
— Ну, вот и кандалы себе купила. Ты бы крылышки-то не распускала, голуба, а то и пёрышки общипают, и косточки поломают.
Мать беззаботно засмеялась:
— А я, тётушка Степанида, и думать не думаю. Хуже не будет. Я — как лозинка: гнуть гнули, а не сломали. Я все невзгоды вынесу, никакой работы не боюсь, всякие беды переживу, зато — на вольной волюшке, сама за себя в ответе.