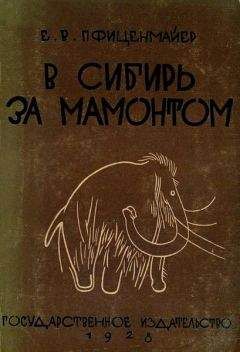Виктор Смирнов - Тревожный месяц вересень
— «Девка справная была!» — Гнат, с набитым ртом, промычал этот куплет и, как испорченная пластинка, повторил:- «Девка справная была!..»
— Чего они не стреляли? — спросил я у Гната. — Чего они вообще торчали в этих кустах? Не вышли навстречу?..
Запросто они могли бы уложить нас на этой сноповозке. А если бы ты не привалил пулемет мешком, то, может, и мы бы их уложили.
— Хе-хе! — ответил Гнат. — «Боны свадебку сыгралы»…
Его мысль текла по неизвестному мне руслу, вдали от этой лесной дороги, от бандюг. Мир, заключенный в кудлатой нечесаной голове Гната, наверно, был красочным и счастливым. Там «играли свадебки», били в бубны, плясали, и «было там чего пить».
Я доедал хлеб. Гнат пел. Он был сытым и счастливым человеком, ему было давно открыто то, к чему мы все стремились. Я же после пережитого никак не мог насытиться. Какая-то прорва открылась внутри. А перед глазами стояли четыре белых пятна, полуприкрытые листвой. И желтый цвет кожаной курточки на одном из бандитов вселял непонятное беспокойство.
От Семенова урочища, засеянного капустой, открылись Глухары. Дымил гончарный заводик, и трубы его перечеркивали красное заходящее солнце. Деревенька медленно плыла к закатному небу. Сизые капустные гряды, похожие на волнующееся море, еще более усиливали картину. Я почувствовал радость, как будто вернулся из бог весть какого дальнего путешествия; и Гнат запел погромче.
Фигурка человека, бегущего навстречу через кукурузное поле, где торчали огрызки стеблей, поначалу показалась мне смешной. Человечек спотыкался и подпрыгивал на неровностях. Через минуту я узнал Попеленко. В руке у моего приятеля-«ястребка» был карабин. Я всполошился. Бегущий невооруженный человек не является тревожной приметой. Может, он один из братьев Знаменских, может, он за курицей гонится, мало ли… Но человек с оружием в руке может бежать только по двум причинам: либо он драпает от противника, либо атакует. Атаковать сноповозку Попеленко было ни к чему. Значит, он спасался бегством. Глухары в опасности!
— Я хлестнул Лебедку.
— Стойте, не надо! — закричал Попеленко, подбегая. — А я уже хотел на хутор, — наконец выдохнул он. — За вами, товарищ Капелюх.
— Да что случилось?
— Ой, ну и дела, товарищ Капелюх! — жалобно сказал Попеленко. — Попадет небось от начальства! Это ж надо, как раз под Глухарами! Нет чтобы под другим каким местом! Шлях-то чималый!
У меня отлегло от сердца. Бандитов в селе не было, иначе мой подчиненный не думал бы о начальстве. Когда бежишь от пуль, страх перед начальством-дело десятое.
— Попеленко! — крикнул я. — Выплюнь галушку изо рта!
— У меня нет галушки! — удивился «ястребок».
— Тогда ясным и четким языком доложи обстановку!
— Коняка в Глухары прибежала, — сказал Попеленко. — Притащила бричку. А в бричке товарищ Абросимов. Убитый да замордованный{12}. Бандерами, гадами. И надо же, под нашим селом!
— Какой Абросимов? — спросил я.
— Да тот, что хотел приехать с «плантом». Насчет борьбы с бандитизмом. А «планта»-то при нем нету! Что ж делать будем, а?
И тут я вспомнил Абросимова. Его беленький воротничок навыпуск, пиджак с ватными широкими плечами и кожаную желтую курточку с белой проплешиной от ружейного ремня на правом плече. Вот черт… «Замордованный». Ведь он же совсем мальчишка, несмышленыш.
— Садись! — крикнул я Попеленко, и он ввалился в телегу — через грядку, как сноп. — Н-но, Лебедка!
Я хлопнул вожжами, дернул, но на лошадь напал очередной «псих», ей на хотелось передвигать ногами, она пыталась почесать шею об оглоблю.
— Да разве ж она без кнута когда бегала? — спросил Попеленко срывающимся голосом.
— А ты разве не спрятал кнут?! — крикнул я на него. — Ты ж ее пожалел!
Я кинул ему вожжи и, приподняв пулемет, дал над головой Лебедки очередь. Меня тут же от рывка телеги отбросило назад, на Гната, так что железки в его мешке вонзились в спину, и мы понеслись. Стрельба возродила в Лебедке какие-то уснувшие страхи. Она как будто сбесилась, и Попеленко теперь старался сдержать ее, откинувшись назад и натянув вожжи.
Абросимов!.. Мальчишка в отцовской курточке… Так вот почему бандиты оказались на Мишкольском шляхе. Это они возвращались с Ожинского шляха прямиком, через лес. Подстерегли Абросимова, сделали свое дело и возвращались к УРу по старой Мишкольской дороге. Ох, если б я знал, где раздобыл бандит желтую кожанку, я бы все-таки взялся за МГ… Меня мотало на сноповозке из стороны в сторону, Гнат смеялся, полагая, что мы с Попеленко затеяли скачку, чтобы повеселиться. Он пел, стараясь перекричать стук и лязг телеги:
Воны свадебку сыграли,
И было там чего пить,
Воны ночку переспелы
И почалы добре жить.
Воны диток нарожалы:
Шесть хлопча та шесть дочок!..
Глава третья
1
Мы влетели в Глухары с таким грохотом, что толпа, собравшаяся в центре села, у брички с убитым Абросимовым, расступилась, едва завидев сноповозку. Попеленко тщетно натягивал вожжи, упираясь ногами в передок. Но тут, к счастью, у нашей телеги лопнула аварийная «лисица», обломок ее ткнулся в землю, задняя подушка вместе с колесами отскочила, сноповозка осела на кузов, и мы затормозили в двух метрах от брички.
Я бросился к Абросимову. Он словно бы придремал на мягком сиденье подрессоренной своей коляски, склонив голову к плечу. Я видел только угловатый, стриженный под «полубокс» затылок. «Ох, зачем он взял эту райкомовскую бричку! — подумал я. — Лучше бы он ехал на телеге и, кто знает, проскочил бы, ведь ездят же по этой дороге мужики! Но бричкой он сразу выдал себя, бричкой и кожаной курточкой».
Я обошел с другой стороны коляску и чуть отклонил голову Абросимова. Белый воротничок, выпущенный поверх пиджака с широкими ватными плечами, был весь в крови. И на лбу Абросимова была огромная рана с запекшейся уже, порыжевшей кровью. Я вначале принял эту рану за выходное отверстие, но потом догадался, что это за рана.
Рука Абросимова была уже холодной, совсем холодной, и на ладони темнел порез. Я отвернулся и посмотрел на крестьян, столпившихся вокруг. У баб, как это всегда бывает в таких случаях, на лицах застыло выражение немого плача. Казалось, достаточно одного слова, жалостливого слова, и раздадутся причитания и вопли в голос. Но все молчали. Мужики смотрели угрюмо, исподлобья.
Я заставил себя взглянуть на порезанную ладонь Абросимова. Да, значит, он был еще жив, когда они высекали ему звезду на лбу. Он пытался ухватиться за финку. Интересно, гоготали они или делали свое дело молча? Вот сволочи. Палачи. Фашисты и прислужники фашистов. Носили полицейские кепки. Лебезили перед всеми этими гауляйтерами, гебитскомиссарами, комендантами. Толковали о большой политике, требующей союза с немцами. Теперь толкуют о «вольной Украине», о засилье большевиков и Советов. Ведь ни один палач не назовет себя палачом или садистом. Ему хочется встать под знамя. Знамя оправдывает. Все, мол, прощается человеку под знаменем. Теперь они — борцы за самостоятельность, вольность. Они не хотят, чтобы их считали уголовниками. Но действуют они как уголовники. Как мародеры, садисты. Вот он какой, национализм.
— Пистолет лежал в бричке, — сказал Глумский. Он протянул мне ТТ. Губа у него дергалась, открывая крупные, выдающиеся вперед зубы.
— Сколько ему было? — спросил он. — Шестнадцать?
Значит, пистолет они оставили. Им не нужен был этот старый ТТ. Берите, мол, свое добро, стреляйте. В стволе не было нагара. Я извлек из рукоятки обойму — в ней желтели патроны. Абросимов ни разу не успел выстрелить. Наверно, они подскочили неожиданно, ловкие ведь были ребята, поднаторевшие в лесном разбое. А может, он не сумел заставить себя выстрелить в человека или просто испугался? От настоящего испуга немеют руки и ноги, а мочевой пузырь вдруг становится переполненным, как будто ты только что выдул целое ведро. В первом бою, когда я увидел фрицев, не тех уродливых карликов или людоедов, что рисуют художники, а людей — живых, разгоряченных, в мундирах, подпоясанных ремнями, в сапогах и пилотках, с разинутыми от крика или от страха ртами зубы блестели от слюны, — я так и не мог нажать на спуск. Я нажал, когда немцы уже побежали обратно. Я стрелял в спины. Страх прошел, как только исчезли лица. Потом я долго мочился в окопе. Мне казалось, я залью весь окоп — столько во мне вдруг оказалось жидкости. Кукаркин, тот смеялся, а Дубов отнесся к происшествию серьезно. Он сказал, что все нормально, так и должно быть, что в природе все продумано и к месту. Мужику, к примеру, даже такому дураку, как Кукаркин, она дала штаны, потому что стыдно ходить без штанов по улице. Дала голову, чтобы было на чем держаться пилотке. И она же, природа, устроила так, что человек боится убить другого человека. Очень боится. И это нормально, иначе черт знает что творилось бы. В мирное время только уголовник-выродок или псих какой-нибудь может решиться на убийство. А вот в войну приходится и хорошему человеку учиться убивать. И очень это нелегко дается, так что все правильно, подмывай, Капелюх, стенки окопа, авось не обвалятся.