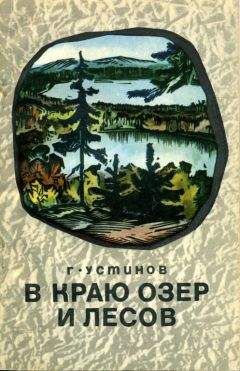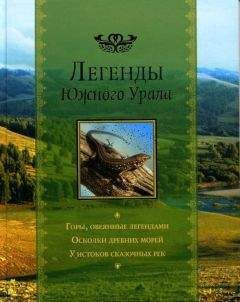Николай Верзаков - Таволга
— Кто их снес? — спрашиваю.
— Лесная курочка — рябушка.
— А где она?
— Где-нибудь тут, смотрит за нами. Ну, пошли, а то остынут и пропадет кладка.
Весь день я думал о лесной курочке, о том, что, когда выведутся цыплята, соберу их в корзиночку, принесу домой и стану кормить. Мне так хотелось увидеть курочку, что я отправился к гнезду один. Шел, прячась за деревьями, а потом полз. Впереди мелькнуло. Долго лежал, не шевелясь. Качнулась травинка, и тут увидел курочку. Она подняла лапу, чтобы сделать шаг, но не сделала, а как бы застыла, вытянув шею и повернув голову. И вдруг пропала. Куда подевалась, я не знал, хотя не отрывал глаз, разве что мигал изредка. Продолжал лежать, словно оглохнув и онемев. Очнулся оттого, что жгло шею. Провел рукой, и ладонь покраснела. На лице тоже подавил немало комаров.
Дед, увидев меня, хохотал:
— Сладкий ты, видно, ишь как они на тебя напустились. А меня хоть бы один попробовал. Старых-то и комары не любят.
На другое утро в гнезде осталась только скорлупа. Возвращаясь, я был испуган. Из травы с треском вылетела курочка и, поднявшись невысоко, вдруг свернулась и упала комом. Показалось, она подбита, и я решил ее подобрать. Но курочка не далась, взлетела теперь повыше и пролетела подальше, снова упала, затем поднялась и скрылась в лесу.
Я прибежал к костру и рассказал дедушке о том, что цыплят в гнезде нет, а курочка, видно, ранена.
— Отводит, — ответил дедушка. — У них все так: застигнешь — ну и почнет кувыркаться да все дальше, дальше, а цыплята в траве прижухнут.
— Пойду, поймаю их, — загорелся я.
— Не возьмешь. Порх-порх — и нет их.
Дедушка говорил о том, что птиц теперь не стоит тревожить, пусть тело наедают, что теперь утка, кулик, валешень (так он называл вальдшнепа), косач и всякая другая птица детей вываживает, и беспокоить ее нельзя. Тетеревов дед называл косачами, а тетерок, копалух и глухарей одним словом — копалье.
— Вот погоди, через месяц-другой рябчика по ключам нарастет множество, а косача, а копалья-то что будет!
Птенцы растут быстро и долго держатся вместе. Когда выводков много и они не распуганы, можно увидеть на кормежке несколько семей вместе. Как-то в августе мне удалось увидеть на выкошенной поляне десятка три птиц, но это было давно. Теперь и один неразбитый выводок — редкость.
ДЕДУШКИНА СУМКА
Горячо пахнет разворошенным сеном — зной выпаривает запахи. В ушах тихий, утомительный звон.
Дедушка в распущенной белой рубахе навешивает на баганы пласты сена. Он взлохмачен, с опаской косится на небо: «Эх-ма, гроза будет». Кричит бабушке: «Саня, лезь наверх!»
Бабушка взбирается, опираясь на вилы, и утопает по пояс в душистом ворохе.
Стог растет. Растет и облако, превращаясь в тучу. Спешим. Рубаха на плечах дедушки прилипла. С запаленного лица бабушки срывается пот. Напиться бы, но некогда. Черная туча глухо ворчит.
— Погоди! — Дедушка грозит туче кулаком.
Навильники летят вверх друг за другом. Становится темно и тихо.
— Ну, держись теперь!
Полыхает молния. Небо трещит.
— Верши! — дедушка старается перекричать грозу.
Бабушка подбирает под себя последний пласт. В мою голову щелкает тяжелая капля, еще и еще, и, словно кляп вверху выпал, — хлынул дождь.
— Принимай! — дедушка подает ветреницы — тонкие березки, связанные вершинками.
Перекинув их, бабушка спускается, и мы с ней лезем в продух. В стогу теплый сенной дух.
— Ух, вовремя управились, — бабушка отирает платком лицо. — Кваску бы теперь — самое дело.
— И хлебушка.
— Ну, давно ли ели, так часто нельзя.
Она вспоминает свою жизнь в деревне до замужества.
— Раньше шибко помногу робили. Стара, или старая мама — бабушка по-теперешнему, чуть свет поднимет, — и в поле идешь. Летом день-то что год. Ждешь не дождешься, когда солнышко к обеду поднимется. Привалишься к копне либо к снопу, достанешь каравай да и съешь его весь. А какой сладкий хлеб-то казался. Запьешь квасом, а то водицей, и опять до вечера присесть некогда. Доберешься в сумерках, падешь на кровать и ни рукой бы ни ногой не шевельнул. А утром опять с восходом будят. Вот он хлеб-то и сладкий был.
— Теперь хуже? — спрашиваю.
— Достается легче.
— А ты бы отдыхала чаще, вот и не уставала бы так, — говорю.
— Ну-ка хлеб не уберешь или сена не поставишь, зимой-то овсяники глодать придется да гороховым киселем захлебывать.
Овсяники — кральки из грубой овсяной муки — я не любил, так же, как и кисель гороховый.
Из рассказов бабушки выходило, что раньше все время проходило в работе, но она не жаловалась, будто и тягость была не в тягость.
— Сколько песен перепоешь за день-то, сколько дум передумаешь, всю жизнь переберешь.
Дедушки нет. Выглядываю. Он стоит под окатным дождем, широко расставив, ноги и запрокинув голову, смеется.
Гроза уходит. Мы шагаем по ослепительно сверкающей траве. За нескладной, костистой спиной дедушки кожаная сумка с крутыми боками, значит, в ней что-то есть. Спрашиваю. Дедушка отвечает:
— Зайчик.
— Покажи.
— Убежит.
— А ты в щелку, — дергаю за рукав от нетерпения.
Дедушка останавливается, не торопясь снимает сумку, раскрывает и ахает:
— Выскочил! Вон он, вон, держи!
Смотрю за куст, и, мне кажется, там шевелится трава.
— Погоди, хвост отрастет к осени, мы его тогда схватим. Ну, что скуксился, суй руку-то дальше.
Я запускаю пальцы, нашариваю гладкие стволики и догадываюсь: дудки. Так и есть, в сумке дудки!
Дедушка выбирает из них две, аккуратно подравнивает края, прорезает щель, пробует, прибавляя звук, и, наконец, говорит бабушке:
— Саня, запевай.
Бабушка не заставляет себя упрашивать, начинает:
По улице мостовой,
По широкой столбовой…
— Не эту, — протестую я.
— Ты нам давай настоящую, боевую, а по мостовой-столбовой себе оставь.
С неба полуденного
Жара не подступи…
— Вот теперь в самый раз.
И мы с дедушкой дудим в такт.
В ненастные дни дедушка сидит перед печкой на дуплянке, обтянутой кожей, в руке шило, кодочиг или нож — смотря по тому, чем занят. Он умеет сделать сноровистые вилы и удобные грабли, может отбить и направить литовку, да так, чтобы валила траву без усилия. Может сплести кошелку, корзинку и короб, набрать корья от такого тальника, которым лучше дубить кожу, а из нее сшить сапоги. Сметанный им стог не проливали никакие дожди, а уложенному и затянутому возу не страшна была дальняя дорога.
Дедушка работает молча, курит «козью ножку» и о чем-то думает, иногда вслух. Если попадется сердитое слово, пес Жулик уходит под лавку и оттуда косит глазом.
— Не по губе угощение, шпиен лохматый, — добродушно ворчит дед. И мне: — Выскочи, погляди, скоро ли отдождит.
Мне надоела сырость, я охотно выбегаю в сени и, хотя за порогом мокро по-прежнему, говорю:
— Таганай уж видно.
Через час небо в самом деле очищается. Дедушка встает, потягивается с хрустом, обувается в сапоги, снимает с гвоздя свою сумку и надевает через плечо.
Идем к берегу. Первой в лодку прыгает собака. Дедушка садится за весла, я — на корме. Вода голубая с редкими белыми облачками и черным забором елей под берегом так спокойна, что комар или мошка, коснувшись ее, оставляют след.
Останавливаемся, выдергиваем десятка два красноперок, и, хотя мне еще хочется поудить, дедушка торопит. Недалеко от устья Тесьмы торчат палки, воткнутые в илистое дно. У каждой поводок с крючком. Дедушка вытаскивает их по очереди и проверяет — нет ли чего, меняет наживку и едет к следующей. На две жерлицы попались налимы. Дедушка осторожно снимает рыб, аккуратно завертывает их в тряпицу и опускает в сумку. Там налимы лежат тихо, изредка пошевеливаясь.
— На мыс надо успеть, — и дедушка втыкает последнюю жерлицу.
Причаливаем к мысу. Жулик с радостью выскакивает и мчится куда-то по своим делам. Дедушка бредет по густой траве, изредка что-то срывает и кладет в сумку.
— Вася, пособи-ка, — просит он меня подержать высокие стебли с голубыми цветами, а сам подкапывает корни.
Дома все богатство раскладываем на столе и сортируем: траву сушить, щавель в щи. Корешки очищает от земли бабушка, промывает их, режет ломтиками — и в печь. Высушенные, они напоминают сухарики из белого хлеба.
— А вот тебе царское угощение, — дедушка достает из кармана сумки горсть красной смородины.
— Не видали небось цари такого добра, — отзывается бабушка, но подарком довольна.
— Цари-то, хвати — так многого не видали. Пельмени из налимов или котлеты из рябчиков какой король ел? А ты ела. Одна сумка знает, что в ней перебывало. То-то!