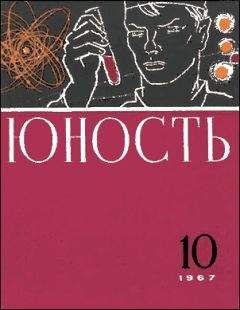Расписание тревог - Богданов Евгений Федорович
Еще он полюбил рассказывать истории из своего геологического прошлого, по большей части вычитанные из книг. В то приподнятое, оживленное время не было недостатка в подобной продукции, она составляла целую отрасль текущей литературы.
Само собой разумеется, всякую историю Драбкин тщательно подгонял под свои данные, учитывая даже такие личные приметы и качества, как рыжеватость, громкий резкий голос и невысокий рост.
Устные свои рассказы он облекал в форму некоего подтрунивания и подшучивания над собой. Это действовало на слушателей убеждающе.
При поступлении в институт он снял две копии с трудовой книжки, благо вся она состояла из двух записей: принят в геологогруппу и уволен из геологогруппы. Две копии ему нужны были для того, чтобы сдавать экзамены в два института — сельскохозяйственный и педагогический. В обоих конкурс был невелик, но потребовались подлинники аттестата зрелости. Драбкин остановил выбор на сельскохозяйственном.
Одна копия оказалась лишней.
Он ее сохранил. Если кто-нибудь из слушателей выражал недоверие его геологическим воспоминаниям, он доставал бумажник и спрашивал: «А гербовой печати ты доверяешь?»
Охотников не доверять гербовой печати в то приподнятое, но еще строгое время, как правило, не находилось.
Драбкин смеялся каркающим, наигранно добродушным смехом и подводил резолюцию: «Вот так-то, старики!»
И слушатели нисколько не подозревали, что Алик в эти минуты обмирает от страха разоблачения.
Умение громко петь вкупе с превосходным знанием песен очень пригодилось Драбкину на целине.
Когда институт забурлил целинным энтузиазмом, старый профессор Каштанов высказался не то чтобы против похода на целину, а в том смысле, что ехать следует тем лишь, кто имеет хоть какие-то практические навыки, а не всем скопом; что некоторым студентам с сугубо теоретическим мышлением полезнее для общего дела продолжать обучение. В их числе он назвал и Драбкина с его курсовой работой по агротехнике мышиного горошка и луговой вики.
Это было на общем собрании.
Студенты, несколько охлажденные выступлением профессора, заколебались, пылкое настроение поугасло.
Драбкин тотчас раздумал ехать вообще и готов был горячо аплодировать профессору, которому подражал и на которого очень хотел бы походить в зрелые годы.
Он уже загодя перенял у Каштанова кое-какие словечки и выражения.
Например, когда к Драбкину обращались с вопросом, а он не знал, что ответить, он по-каштановски, с характерной каштановской интонацией, произносил: «Право же, голубчик, затрудняюсь…» или же, когда переспрашивал, непременно вставлял: «О чем, бишь, изволите? Ась?» Ему и в голову не могло прийти, что Каштанов употребляет свои словечки и выражения по застарелой привычке разыгрывать из себя этакого старорежимного ученого мужа.
Получалось, Драбкин невольно эксплуатировал не только каштановское настоящее, но и прошлое.
Публичное лестное упоминание профессором его имени отдалось в Драбкине горячей волной преданности, воображение мгновенно нарисовало ослепительные перспективы… Словом, он готов был за Каштановым в огонь и воду.
В этот момент к нему протиснулся Феликс Шульгин, комсорг.
Если Драбкин хотел бы быть похожим в будущем на Каштанова, то на Шульгина — теперь. Это был спокойный, уравновешенный волжанин, пришедший в институт после армии. Копируя манеру речи Феликса Шульгина, а тот говорил ровно, увесисто, словно хлеб резал, Драбкин невольно усвоил и некоторые его выражения: самое смешное, что, или вскрытие покажет, или пожуем — увидим. Он и держался с той же крестьянской обстоятельностью, что и Шульгин, и даже прихрамывал, как Шульгин, растянувший связки за зачете по физкультуре.
Итак, Шульгин притянул Драбкина к себе и задышал в ухо:
— Давай, Алик! Я уже выступал. Второй раз не дадут. Врежь ему. Скажи, что хлебороба делает поле! А голова не пропадет, если не тыква. Жалко, я уже выступал. А то бы сам врезал.
Шульгин почти силой вытолкнул Драбкина в проход между рядами. И Драбкин, неожиданно для самого себя, бойко заокал об умозрительном эмпиризме отдельных преподавателей, самое смешное, понять которых, право же, затруднительно, то бишь вовсе невозможно, но что вскрытие покажет, кто был прав, пожуем — увидим.
Выступление было встречено дружным смехом. Громче всех смеялся Каштанов. Успех был полный, но душа у Драбкина была не на месте. После собрания он отправился к профессору с покаянием.
Каштанов принял его весело, оживленно, как бы даже помолодев от словесной рубки;
— Ни-ни-ни-ни! Я вас понимаю! Вы ведь искренне меня распушили? А искренность — это больше, чем аргумент, право же, голубчик! И вообще, будь я поборзей, помоложе, ахнул бы с вами на целину! Взяли бы меня… ну хотя бы главбухом?
Драбкин пыкал и мыкал, словно отвечал по билету не подготовившись.
— Ась? ась?
— Я… простите… право же… я не прав! — Драбкин покраснел до слез и спрятал глаза.
Просмеявшись, Каштанов посоветовал ему на заочное не переводиться, всего разумнее взять академический отпуск на год, а там будет видно.
— Но! — предупредил он, понизив голос и испытующе заглядывая Драбкину под очки. — Это я вам советую приватно. Приватно-с!
Квартира, где нынче обитает Драбкин, очень уютна. Мягкая мебель, гардины шелковые и тюлевые, много вьетнамских ковриков и соломок.
Посуда подобрана с женским вдохновением: в серванте хрусталь, на кухне красный фарфор и белая в цветочек эмалировка.
В комнате у окна стоит швейная машина с оверлоком, рядом, на письменном столе, — вязальная; Драбкин шьет и вяжет на себя сам.
Трудно поверить, что это жилище холостяка.
Между тем он уже много лет в разводе и даже свободен от алиментов. Дочка недавно окончила геологический и распределилась в Свердловск, бывшая жена живет в другом конце города.
Бывшая жена Эмма некогда работала машинисткой на его кафедре.
Драбкин, вернувшись восвояси из целинно-залежных земель (как и предсказывал профессор Каштанов) и защитив диплом, по протекции того же профессора Каштанова был зачислен в аспирантуру — впервые за всю историю кафедры растениеводства мнение профессора не разошлось с мнением руководителей. Хотя вступительные экзамены Драбкин сдал довольно посредственно, сработало его заслуженное прошлое геолога и целинника.
Эмма в ту пору была замужем за программистом Ленечкой Коломбедом, исполнительным, жизнерадостным и необыкновенно улыбчивым хлопчиком из Житомира. Жили они с Ленечкой в аспирантском общежитии полулегально, под вечным страхом выселения, и оттого были на редкость гостеприимны. В тесной их комнатушке перебывала вся кафедра. Чаще и желаннее всех бывал Драбкин, как человек, обладающий определенным весом в кругах общественности. У них завелся обычай готовить вместе и обедать вместе, и за обедом Драбкин рассказывал из жизни геологов и целинников.
Из собственной целинной одиссеи он особенно любил один эпизод.
Необходимо было пригнать в совхоз несколько «зисов» с железнодорожной станции. Опытные водители уперлись: ехать предстояло по бездорожью полтораста верст.
Директор бросил клич добровольцам.
Первыми вызвались Шульгин и Драбкин.
Опытные водители смутились было, но настояли, чтобы оба смельчака поехали тоже. Опытные эти водители были прирожденные педагоги — кто-то из них, улучив минуту, спустил бензин из машин Шульгина и Драбкина, оставил лишь столько, сколько хватало на полдороги от станции до усадьбы.
Это обнаружилось уже в рейсе.
Шульгин остановил колонну, но горючего им никто не дал под тем предлогом, что у самих в обрез.
Драбкин упал духом.
Не было бензина, не было еды, даже погоды не было — в кабину лупил дождь со снегом, и вообще не было никакой надежды, что они когда-нибудь выберутся.
В этом месте Эмма всегда бледнела. Однажды Драбкин рассказывал эту историю при Шульгине. Шульгин приехал на курсы повышения квалификации; институт он закончил заочно и работал главным агрономом в том же совхозе.