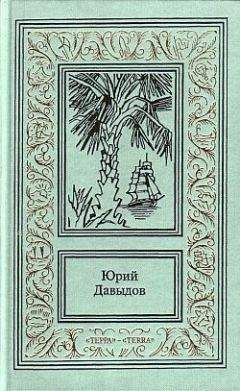Григорий Кобяков - Кони пьют из Керулена
Дамдинсурэн поджигает отаву — она высокая, сухая и загорается сразу, и Дамдинсурэн делает змейку, растаскивая горящие клочья травы и сена в стороны. Теперь только успевай сбивать огонь с подветренной стороны, успевай гасить светлячки, которые перекидываются ветром, не давай ходу вглубь на ветер, навстречу ревущему валу огонь пусть ползет, пусть бежит и в стороны.
Чем длиннее и шире будет черная выгоревшая полоса, тем безопасней.
Сколько прошло времени — час, полтора или больше — Дамдинсурэн не знал. Только когда вал подкатился к встречному — огню, только когда с последним мощным вздохом в небо взметнулись искры, дым и пламя, чтобы тут же в медленной агонии умереть и затихнуть, Дамдинсурэн в изнеможении опустился на траву. Невыносимо захотелось пить. От горького дыма першило в горле, болела голова и в ушах стоял не утихающий не то звон, не то гул. Два-три раза затянувшись трубкой, тяжело поднялся и, пошатываясь, побрел к ближнему стогу сена, где на привязи стояла лошадь. Теперь можно и домой. Сев в седло, он взглянул прямо перед собой и сердце сдавила боль: там, где стояла его юрта, свечой полыхало необычайно яркое и высокое пламя.
Дамдинсурэн застонал.
…Когда из поселка на стоянку Дамдинсурэна примчались люди, они увидели черную, обугленную, голую плешину. Не было ни белоснежной юрты со всем ее домашним скарбом и сундуками, ни двухколесной телеги-арбы, что стояла напротив дверей с задранными вверх оглоблями, ни загона для овец. Все подчистую сожрал огонь. Чуть в стороне, прямо на земле, сидел с непокрытой головой Дамдинсурэн и тупо глядел, как дотлевает войлок и как догорает куча сухого аргала, заготовленного на всю долгую долгую зиму. Около Дамдинсурэна, понурив голову, стояла заседланная лошадь. Наглотавшись дыма, она натужно и тяжело кашляла.
…Они наступали на огонь втроем: слева — Ванчарай-младший, в середине — Алтан-Цэцэг, справа — Тулга. Ванчарай работал яростно: он то хлестал по огню метлой, то, отбросив ее, брал лопату и начинал кидать землю, а когда огонь, выбившись из сил, спадал — дотаптывал его гутулами и шел дальше. Алтан-Цэцэг и Тулга помогали Ванчараю: сырыми талинами, привезенными на машине, они сбивали особенно «злые языки», которые могло оторвать и унести вперед. Все шло, как надо. Вал был разорван, и огонь на их участке, как впрочем и на других, начинал утихать. Казалось, еще немного и зверь уймется, замрет.
Алтан-Цэцэг остановилась, перевела дух. Талина, которой она сбивала огонь совсем обхлесталась и обгорела, в руках остался всего лишь длинный и гибкий, как змея прут.
Подобрав метлу Ванчарая — он работал лопатой. — Алтан-Цэцэг с новой силой принялась за дело. Она совсем не заметила, как развязался кушак. Ее остановил крик Тулги:
— Письма!
Из-за пазухи выпали письма, Максимовы письма, их подхватил порыв ветра и швырнул в огонь. Алтан-Цэцэг вскрикнула и кинулась за ними. Споткнулась, упала. За подругой кинулась Тулга. Но Ванчарай успел перехватить Тулгу и резко отшвырнуть назад. Яро выругавшись, Ванчарай поглубже натянул шапку, прикрыл лицо длинным рукавом, шагнул в огонь. Не успела еще Тулга, сбитая с ног Ванчараем, подняться, как он выволок из огня и дыма Алтан-Цэцэг.
Одежда и сапоги-гутулы на ней дымились. Ванчарай сдернул с Алтан-Цэцэг дэли и снял гутулы. Взял ее, как берут малых детей, на руки и отнес на бугорок, обойденный огнем. Потом снял с пояса алюминиевую солдатскую фляжку, открутил пробку — предусмотрительный Ванчарай даже фляжку с чаем прихватил — строю сказал, почти потребовал:
— Пей!
Она припала к фляжке и жадными глотками стала пить.
— Ну вот, теперь — дыши. Да поглубже. А в другой раз думай головой, — грубовато сказал Ванчарай и добежал к огню, который заметно стал оживать.
Она, как велел Ванчарай, дышала. Воздух, невесомый, свежий и чистый, наполнял ее легкие, причиняя резкую боль. Она гулко кашляла, отхаркивая сгустки черной липкой сажи. От кашля, сухого и надрывного звенело в голове и отдавалось в груди новой болью.
Нестерпимо жгло руки и правую ногу. Тулга, обматывая их какими-то тряпками, выговаривала:
— Ну куда тебя, неразумную, понесло? В огонь, в самое пекло. Если бы не Ванчарай, то ни за что, ни про что могла отправиться в Золотую долину — на закуску волкам и шакалам…
— Письма сгорели, — простонала Алтан-Цэцэг, — адрес Максима сгорел.
— У Дамдинсурэна юрта сгорела, имущество, а ты — письма…. Напишет еще. И адрес сообщит. Да не реви, пожалуйста. Слезы никого не свете еще не украшали.
Тулга откашлялась, выплюнула черный шмоток и поглядела на удаляющийся пожар. Люди, машущие метлами и хворостинами на фоне золотого разлива огня, казались сказочными птицами.
— А Ванчарай-то, гляди, — удивленно заметила Тулга, — не так уж и плох оказывается… Другой бы, разинув рот, глядел, как ты поджариваешься. А он — в огонь! Чуешь?
— Чую, — безучастно ответила Алтан-Цэцэг.
Глава четвертая
Снова белая больничная палата. Снова бесконечные уколы, примочки, мази, порошки, таблетки. И неистребимый больничный запах, запах лекарств. По утрам — обход врача и его неизменный вопрос:
— Ну, как мы себя чувствуем?
Во время процедур — профессиональное сочувствие сестер:
— Ничего, миленькая, потерпи немножко, скоро боли не будет.
А ей все равно: будет или не будет. Вот бы куда-нибудь ушел этот невыносимый и душный лекарственный запах, который спать не дает. Хорошо спится в юрте, сладко, особенно на заре. Тулга любит рано вставать. Поднимет урхо и через тоно — верхнее окошко польется густой а свежий степной воздух… Хоть пей его. А здесь и на заре крепко не уснешь.
На руках, на ногах, на ягодицах — синяки. От уколов.
А к чему уколы? Впрочем, все привычное, все обычное. Второй раз в течение одного полугодия в больнице.
— А все из-за чего? — грустно размышляла Алтан-Цэцэг (на размышления, как известно, больница отводит много времени: пожалуйста, размышляй). — Из-за своей горячности, несдержанности и бог знает еще из-за чего.
Говорят, молодость безрассудна. Но ведь это только говорят. На самом деле не всякая молодость безрассудна. Люди хладнокровные не бросаются в огонь бездумно: они сначала взвесят меру опасности. Взвесят — не то слово. Трусливые люди, вот те взвешивают. И, увидев опасность, не дан бог еще угрозу жизни, в страхе бегут от нее, теряя голову. Смелые, мужественные люди умеют подавлять в себе страх и действовать расчетливо…
Но могла ли она в ту минуту действовать расчетливо? Какая уж там расчетливость…
В часы, когда Алтан-Цэцэг забывалась коротким сном, ей почему-то снилось далекое детство. Их юрта стояла на берегу Керулена. Просыпаясь, она выбегала на улицу. Холодная роса обжигала ей ноги. Попрыгав, словно тушканчик, она возвращалась в юрту. Мать расчесывала ей волосы и заплетала. Косички ее были похожи на задранные козьи хвостики. Может, из-за этого соседские мальчишки ее дразнили козой-дерезой.
Поднималось жаркое солнце. Быстро сохла роса на травах, земля начинала куриться легким паром. Мальчишки и девчонки собирались на речке и затевали игры. Девчонки перебирали камешки, делая вид, будто стряпают лепешки. А мальчишки степенно садились в кружок и сосали короткие тальниковые палочки — трубки курили Когда стряпня заканчивалась, Алтан-Цэцэг становилась учительницей, остальные — учениками. Начинались уроки трудного русского языка.
— Ижий — мама.
— Ма-ма, — вслед за учительницей несмело повторяли ученики.
— Ав.
— Па-па.
— Ленин.
— Ле-енин!
— А теперь что? — грустно спрашивала себя Алтан-Цэцэг, когда боль обрывала радостные и светлые сновидения, когда больше никак не могла сомкнуть глаз. — Так что же теперь?
Алтан-Цэцэг лежала и долгими часами глядела в одну точку, равнодушная ко всему, думала о своей нескладной судьбе. Но ответа на вопрос не находила.
Однажды вспомнила восклицание Тулги на пожаре: «А Ванчарай-то, гляди, не так уж и плох!..» И вспомнила дорогу, длинную, тряскую, дорогу в город, в больницу.
Алтан-Цэцэг лежала в кузове, зарывшись в сено. В кабину с шофером она не могла сесть. Там ехала Иичинхорло — жена Дамдинсурэна. С нею случился какой-то приступ после того, как она увидела вместо своей юрты и имущества пепелище.
В кузове сидел и Ванчарай. Его отправил в город председатель объединения с наказом пополнить медикаментами ветеринарную аптечку и во что бы то ни стало достать кошмы на юрту Дамдинсурэну. Ну и заодно приглядеть в дороге за больными.
Грузовик был старенький: он тарахтел, бренчал и дребезжал, как пустая консервная банка, брошенная на каменистый берег. Мотор часто чихал и отфыркивался, словно ему перехватывало дыхание. Но машина бежала и бежала, наматывая на колеса километры. Чудом каким-то бежала.